




|


 |
|
|
|
Сто дней Автор:
Makedonsky
Дата:
9 октября 2021

Ты знаешь, так хочется жить, Наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить Всех, кто живёт с тобой рядом... гр. Рождество. В эту ночь мои родители шумели особенно громко. Еще бы, мать вместе с театром уезжала в длительные летние гастроли по странам народной демократии, и они решили отметить этот отъезд так, как положено взрослым людям. Я подкрался к закрытой двери между нашими комнатами, приоткрыл ее совсем немного и в щелку разглядел, что отец, почти лежа на матери, дергается всем телом, а мать громко стонет не то от боли, не то от наслаждения. Моя рука, словно сама по себе, нащупала восставший член и начала свое движение вдоль, туда и обратно, туда и обратно... Мы с отцом кончили одновременно – он, насытившись роскошным телом матери, лег рядом, и его член, обмякая, выплескивал последние капли семени, а я просто забрызгал спермой белую дверь между комнатами. Отцу хорошо, завтра суббота, и ему не нужно идти в свой НИИ, а мне все-таки завтра в школу. Нет, уже сегодня! Они немного полежали, пошептались, мать взяла рукой отцов обмякший член, и тот начал оживать, подниматься. Он снова залез на мать, а я пошел спать, в тумбочке нашел клоки старой серой ваты и заткнул уши. Утром отец поехал провожать мать в аэропорт, а я снова взялся рукой за член, который стоял, как мачта уличного освещения. Да и как не взяться, если мать, стоя на коленях у моей кровати, долго целовала меня и в лоб, и в щеки, словно прощалась навсегда, а не на сто дней. Да так оно и вышло впоследствии... Когда я вышел из подъезда, Оля уже ждала меня на улице. Оля – это моя соседка по парте, она все школьные годы сидела рядом, и мы помогали друг другу. Я забрал у нее портфель, и мы пошли по длинной липовой аллее в школу. Оля всегда была длинной, а за последнее время, как сказала моя мама, «разбабела», то есть, налилась женской силой в бедрах и, особенно, в грудях. Много она мне не позволяла, мы только целовались и щупались немного в подъезде под лестницей на первом этаже. А еще она была дочерью лейтенанта милиции, и это меня тоже останавливало от более серьезных шагов. А то бы я бы ей бы... Ну, и училке нашей по литературе и русскому языку я бы тоже охотно вдул, да и не я один. Весь наш класс ее любил, ну, почти все. Девчонки к ней ластились, а мальчишки смотрели с восхищением на ее строгую красоту, а еще потому, что она была старше нас всего-то лет на семь. Про нее говорили, что она крутит шашни с учителем по физике, у которого была жена и двое детей. Но я этому не верил. Пока она не пришла заплаканной и с красным носом. Мария Ивановна, ни слова не говоря, прошла к окну и встала там, словно увидела Пушкина в карете. К ней подошла Наташа, круглая отличница и наша красавица с бровями вразлет, они обнялись, шептались и так стояли минут пять. Все смотрели на них, а я, пользуясь случаем, гладил Олю по прохладному бедру, и моя рука забиралась все выше и выше, пока не уткнулась в трусы. Оля не осталась в долгу и сжимала ладонью мой бугор в штанах. Пауза с учительницей затягивалась, и Оля зашептала мне на ухо: — Знаешь, мама все болеет и отцу не дает, а ему надо. Чтобы он не ходил на сторону, мама упросила меня, и этой ночью все случилось. Так что путь открыт. Я приду после обеда, посмотришь. Вот черт, подумал я, неужели она и тут меня обогнала. Всем известно, что девушки созревают раньше мальчишек. Пока мальчики бегают с рогатками, пускают по лужам кораблики и клеят самолетики, девочки обзаводятся сиськами, волосами и месячными. От Олиных ласк я едва не кончил, но проходить в мокрых трусах полдня мне как-то не хотелось, и я убрал ее руку со своей ширинки. А Мария Ивановна и Наташа все шептались и тянули носами, всем это стало надоедать, и учительница опомнилась: — Я, наверное, не должна этого делать, но я скажу. Сегодня утром в вашем классном журнале я нашла гадкое письмо про меня и нашего физика. Пересказывать я его не буду, но я хочу одного: чтобы автор встал и прилюдно извинился. Юрка Пантюхин встал и сказал: — Кто бы он ни был, я набью ему морду. Юрка Пантюхин – это наш одноклассник, который въехал в наш дом одним из последних. Забавная была картина! Когда заселяли наш дом, мы приехали самые первые, и мне было очень интересно смотреть из окна кухни, как каждый день во двор въезжали машины. С них разгружали разную мебель, и женщины суетились около машин и что-то кричали, мужчины, пыхтя и отдуваясь, таскали эту мебель на разные этажи, а потом курили с шофером, вытирая пот со лба, и подмигивали в сторону женщин. Потом они договаривались, и один из них бежал в магазин. Многие мои одноклассники тоже переехали в этот дом. Я видел, как вместе с отцом приехала Ольга на милицейской машине. Они выгрузили очень много цветов в горшках и один аквариум, прямо с водой и с рыбами. Старшина – Олин отец – понес его сразу в квартиру. А потом приехала трехтонка с мебелью и Олина мама – маленькая, худенькая, закутанная в платки; она командовала тремя здоровенными милиционерами, как «мать-капитанша» из Пушкина. А Ольга носилась взад-вперед и все время что-нибудь роняла. А потом приехал Пантюхин. Они приехали самыми последними. Я стоял у окна и услышал, как во дворе вдруг заиграл аккордеон. По двору шел парень в шляпе набекрень и играл на аккордеоне, а за ним фырчала машина – мотороллер не мотороллер – такая красная машина, на которой ездят дворники, и вел ее наш дворник. Машина была с прицепом, а на прицепе стояла мебель. За прицепом шла очень красивая полная женщина в нейлоновой стеганке и в голубом шелковом платке, размахивала красной сумочкой и пела что-то народное. У нее был очень красный рот – странная такая помада. Рядом с ней шла девчонка – очень стильная, в короткой клетчатой юбочке. А за ними катил детскую коляску – старомодная какая-то коляска, таких сейчас не делают – парнишка в огромной, как аэродром, кепке. В коляске стоял здоровенный фикус, лежали огромные часы и ящики с разным барахлом. Парень был в коротком пальто, маленький и тонконосый, кепка сидела у него на самых ушах, и, когда он начал вытаскивать из коляски фикус, я испугался, что он сейчас грохнет его и тот тип в шляпе даст ему так, что он не опомнится. Он обхватил здоровенный горшок с фикусом, прижал его к животу и на «полусогнутых» потащил в парадную. Мне даже показалось, что я слышу, как он кряхтит. Нес, нес и у самой парадной споткнулся о ступеньку и все-таки грохнул этот проклятый фикус. Горшок расбился на мелкие куски, земля высыпалась. Паренек сорвал свой кепарь и хлопнул им об асфальт, а тип в шляпе сыграл на аккордеоне туш. Красивая женщина с красными губами сделала сердитое лицо, потом махнула рукой и засмеялась. – К счастью! – закричала она так, что я услышал сквозь закрытое окно. Мне все это понравилось. «Забавная семейка», – подумал я. Это и были экскаваторщик и сожитель Юркиной матери Лешка, сама мать, Юркина сестра Лелька и сам Юрка Пантюхин. В школу он ходить не любил, бесцельно болтался по двору или курил со старшими парнями. Я приноровился носить ему домашние задания, особенно, когда его не было дома, а Лелька была. Когда я позвонил в пантюхинскую квартиру, за дверью раздался Лелькин голос. – Кто там? – спросила она. Я ответил и сказал, что мне обязательно и срочно надо видеть Юрку. Дверь приоткрылась, и показалась Лелькина голова в пестрой косыночке. – А, это ты, Лариончик, – сказала Лелька и начала улыбаться: она всегда начинает улыбаться, когда видит меня. Вначале увидит, кивнет головой, а потом начинает улыбаться, сперва немножко, а потом все больше и больше – ну прямо рот до ушей. Можно подумать, что она просто до смерти рада меня видеть. А может, я такой смешной, что у нее при виде меня рот расползается до ушей? Не знаю, что она там думает, а только улыбается, и все. И самое глупое, что я тоже, увидев ее улыбку, сам начинаю улыбаться, прямо расплываюсь весь... Вообще-то улыбка у нее хорошая: веселая и немножко хитрая, а зубы белые и один к одному. Но мне-то от этого не легче: я-то чувствую, что сам улыбаюсь по-идиотски, чувствую, а ничего поделать не могу... Вот высунулась она в дверь и улыбается, а я стою и тоже улыбаюсь. И так мы стоим довольно долго, и я начинаю чувствовать, что у меня уже горят уши и болят щеки от этой дурацкой улыбки. Тогда она говорит: – Ой, чего это я? Юрик скоро придет: я его в магазин послала за нашатырным спиртом – окна мыть. А ты заходи, Лариончик, подожди. У меня тут уборка, но ты не стесняйся, проходи, – говорит она и широко открывает дверь. Я не хотел идти, но потом подумал, что делать мне все равно нечего, а Юрку обязательно надо увидеть, и еще мне вдруг захотелось спросить Лельку, чего это она всегда улыбается, когда на меня смотрит? И вот я вхожу. Из кухни в переднюю падает широкая яркая солнечная полоса, и видно, как пляшут пылинки. И в этой полосе стоит Лелька, в платочке, в майке и в черных в обтяжку трусиках, а больше на ней ничего нет. Я, наверно, вытаращил глаза, потому что Лелька засмеялась и сказала: – Ну, чего ты испугался? Что, я страшная такая? Я уж было подумал, что надо повернуться и уйти, но тут же решил, что это будет невежливо, и потом я же не видел через дверь, что она чуть не голая: она ведь только голову в косынке высунула, и если она не стесняется, то чего же я буду стесняться. Я нахально иду на кухню, а самому мне делается ужасно жарко. Лелька смеется мне в спину и говорит: – Ну, если ты такой пугливый, посиди в кухне, а я буду в комнате убирать. Я встал у окна и уставился в него, как баран, а Лелька взяла ведро и тряпку и ушла в комнату. Я слышал, как она там шлепает мокрой тряпкой и поет всякие глупые песенки, и злился на себя: в самом деле, что я, девчонок в трусиках не видел, что ли? Видел сколько угодно и на пляже, и на физкультуре, и... ничего особенного. И вообще, что тут особенного, ничего особенного нет... Может быть, на меня это так подействовало, потому что я никогда не видел девчонок в трусиках дома? Да нет, чепуха! Так я стоял и думал, уставившись в окно, слушал, как Лелька поет и шлепает тряпкой, а сам так и видел ее: как она стояла в передней в полосе света. И я подумал, что это все-таки очень красиво: вот такая стройная девчонка в солнечном свете. Вообще хорошая фигура и у женщины и у мужчины – это ведь в самом деле очень красиво. Как я раньше я этого не понимал? Я подумал: может быть, на меня подействовал Лелькин вид не потому, что я никогда не видел девчонок в трусиках именно в квартире, а потому, что мы одни в этой квартире. Вот в чем дело: одни... И как только я подумал об этом, меня сразу опять бросило в жар. Я ругал себя последними словами, но ничего не мог поделать – в висках так и стучало: одни, одни, одни. И ноги будто приросли к полу: чувствую, что надо уйти, и не могу... не хочу, хоть ты лопни. И тут входит Лелька, я слышу, как она возится около крана, и боюсь повернуться, а она вдруг так ласково говорит: – Лариончик, ты чего в окно уставился? Там интересное что-нибудь? – И ехидно смеется. Я быстро поворачиваюсь, надеясь, что она хоть юбку или халат надела. Ничего подобного: стоит себе в трусах, подбоченилась и спрашивает: – Лариончик, хорошая у меня фигурка? – Ничего... – говорю я и проглатываю слюну, а сам думаю: черт бы тебя побрал с твоей фигуркой. А фигурка у нее в самом деле отличная, тоненькая, стройненькая, но не такая, как у Наташки или Ольги, а как у той девушки из «Вечной весны». – Правда, ничего? – спрашивает Лелька и вдруг краснеет. Уж очень, я наверно, разглазелся на ее ноги. Засмеялась и убежала, а я продолжаю стоять, как обормот, и уши у меня горят, как будто их перцем натерли. Так я стою и думаю: уж скорее бы Юрка пришел в самом деле, хотя прекрасно понимаю, что мог бы подождать его во дворе: выйти сейчас во двор и там подождать – и вся игра, как говорит Юрка. Понимаю, а стою, как будто приклеился задом к подоконнику и никак мне не оторваться, и сердце колотится, как проклятое, прямо как мотоциклетный мотор стучит. А тут опять входит Лелька. Слава тебе, господи, в юбке, кофточке и без косынки, и даже причесаться успела как-то по-особенному. Подошла ко мне близко-близко и улыбается своей чертовской улыбочкой, и я уже начинаю чувствовать, что и сам расплываюсь и сияю, как медный самовар. Прямо гипноз какой-то! А она подходит еще ближе – так, что даже чуть-чуть касается меня своей грудью, и я совсем не знаю, куда мне деваться, и отодвинуться не могу – подоконник не пускает, а если честно говорить, то я и не хочу вовсе отодвигаться. – Что ты такой красный? – спрашивает Лелька. – Ж-жарко... – выдавливаю я и стараюсь хоть немножечко отодвинуться, чтобы только не чувствовать ее грудь, прямо вмялся в подоконник, но она придвигается еще ближе. – А ты хорошенький, Лариончик, – говорит Лелька, и вдруг совсем близко я вижу ее глаза – голубые-голубые, с большущими мохнатыми ресницами. – Вот ещ-щ-е... – хриплю я. Ненавижу, когда меня называют хорошеньким, – что я, девчонка, что ли... – А ты целоваться умеешь? – шепотом спрашивает Лелька, и я ничего не успеваю ответить, как она обхватывает меня за шею и крепко-крепко, так что я чуть не задохнулся, целует прямо в губы... Потом глянула в окно, ойкнула, схватила меня за руку и потащила в переднюю и там мы еще четыре, нет, пять... нет, кажется, все-таки четыре раза поцеловались. Я ничего не соображал, и в голове у меня клубился какой-то туман, но все-таки я первый услышал, как в двери поворачивался ключ, и отскочил от Лельки. Пришел Пантюха. И вот теперь, когда он наконец появился, я подумал: чего это он так поторопился, не мог еще хотя бы полчасика по магазинам походить. Пришел и говорит: — А чегой-то вы такие красные? А Лелька в ответ: — Красные лучше, чем зеленые. Значит, поспели. А сама улыбается хитренько. Жаль, что Юрка пришел раньше времени, я бы ей вдул. А Юрка взял мои листки с домашними заданиями и демонстративно выкинул в мусоропровод. Учительница между тем продолжала: — Я хочу, чтобы этот эпистолярный писатель встал и сознался. Я и так знаю, кто он, хотя письмо и напечатано на машинке. По стилю догадалась. Итак? Я тоже знал, кто это. Это был Валечка-скрипач! Это он распространял злые сплетни о наших девчонках, и его лисья мордочка при этом светилась от удовольствия. А когда он узнал об учительнице и физике, счастью Валечке не было предела! — Я тоже знаю, Мария Ивановна! – сказал я и решительно встал, хотя Ольга тянула меня за рукав обратно. – Вы не расстраивайтесь сильно, мы его накажем по-своему. Вы начинайте урок и не беспокойтесь ни о чем. — Ладно, – согласилась учительница. – Тогда про Пушкина. Она что-то говорила про Пушкина, про Керн, а мы почти не слушали. Мы ждали большой перемены, чтобы поквитаться с обидчиком Марии Ивановны. И дождались! Прозвонил звонок и обиженная, но гордая учительница вышла, а класс остался. Я встал и запер дверь на стул. Девушки встали у доски и принялись шептаться, поглядывая на бледного Вальку. Кныш и Гришка Потапов держали Вальку, чтобы не сбежал, а к скипачу очень медленно приближался Юрка Пантюхов. Он выразительно постукивал кулаком правой руки о ладонь левой и при этом плотоядно улыбался. — Вот, Валечка, придет время, пойдешь ты в армию, – говорил Пантюха, приближаясь очень медленно. – А там таких не любят, там, если что, сразу в репу! А я тебя сейчас поучу! — Не бей его, Юрка! – сказал я. – Только руки отобьешь. Сделаем еще лучше. Нужен кусок мыла и носок, а еще лучше, чулок. Мы перевернем Вальку вниз головой и будем бить его мылом в чулке по яйцам. Играть на скрипке он сможет, а детей у него не будет точно. Валька побледнел еще сильнее, его подбородок задрожал, а из левой штанины выбегла темная струйка. — Батюшки! – закричала Ольга. – Его и бить не надо. Он обоссался! — Лично я, – заявила Наташа. – С этой вонючкой я рядом не сяду, и разговаривать не буду! — Бойкот обоссаному! – закричала Ольга, и все подхватили: — Бойкот! Бойкот! Вальку отпустили, и он на четвереньках выполз из класса. После уроков мы, я и Юрка, вышли из школы. — Хорошо, что он обоссался, – сказал Юрка. – Бить такого, как месить гавно руками. А это кто? Возле школы в тени березы сидела маленькая темная фигурка с желтым чемоданом. — Это наша Мария Ивановна, – почему-то шепотом сказал я. – Надо спросить... Действительно эта была Мария Ивановна. Она сидела, согнувшись, в темно-сером плаще, словно бездомная ворона, и встала, едва мы подошли. — Вот, – сказала она, бледно улыбаясь. – Беда не приходит одна. Хозяйка отказала в квартире. Сижу, чего-то жду... — Я бы Вас приютил, – сказал Юрка. – Но у меня дома бардак! Женихи одолели... — Я, я могу! – почти закричал я. – Мать сейчас на гастролях, одна комната будет Вашей! — Спасибо, Саша, – ответила Мария Ивановна. – Но я не смогу много платить. — И не надо! Мы не бедствуем, отец - ученый в НИИ, мама – актриса. Пошли, а? Юрка подхватил чемодан, и мы почти потащили учительницу на новую, на мою квартиру. Она вяло отнекивалась, сопротивлялась, но я все-таки втолкнул ее в полутемную прихожую. Юрка оставил мне чемодан и исчез. — Какие же вы, ребята, хорошие! – выдохнула Мария Ивановна. – Дайте я Вас, Сашенька, поцелую. Она поцеловала меня в щеку и пошла смотреть бывшую мою комнату. Когда с работы пришел отец, Мария Ивановна освоилась вполне. Протерла полы, вымыла посуду и что-то готовила на кухне. Хорошо, что я встретил его на лестнице и сбивчиво, путаясь и краснея, объяснил ему ситуацию. — Вот и хорошо! – ответствовал отец. – Пусть живет хоть до осени! Летом поедем в отпуск, будет, кому за квартирой приглядеть. И горячего похлебать не мешает. Сухомятка надоела! Как мне показалось, отец даже обрадовался. Может, и правда свежего борща захотелось! Мария Ивановна приготовила обед из того, что нашла на кухне: суп фасолевый с уткой и отварила сосиски. Мама тоже хорошо готовила, но так вкусно у нее не получалось. Даже сосиски оставались целыми, а у мамы они получались, как после пытки в испанской инквизиции, все перекрученные и лопнувшие, словно водопроводные трубы в мороз. Картошки и макарон у нас не оказалось, и отец сделал себе к супу бутерброд сразу с двумя сосисками. Ел и нахваливал. Мне показалось, что слишком. — Пап, мать не пишет? – спросил я. – Может, на работу тебе звонила? Учительница вопросительно посмотрела на меня, а я на отца. — Она у нас актриса, – пояснил отец. – На гастролях с театром. — Далеко? – спросила учительница. — Значит, маршрут такой, – охотно пояснил отец. – Прибалтика, Польша, Чехословакия, ГДР. Режиссер – Долинский. Слышали? — Не только слышала, но и видела. Обаятельный молодой человек! После обеда они вместе мыли посуду на кухне, чему-то смеялись, а я сидел на диванчике и удивлялся отцу. Посуду мыть он не любил. Ее мыли по очереди либо мать, либо я. Потом мы занялись перестановками. Отец решил, по моему совету, разумеется, отдать учительнице не только комнату, но и все, что в ней, за исключением узкого диванчика. Старый комод мы вынесли на балкон, а диванчик поставили на его место. Таким образом, Мария Ивановна получила во временное пользование полупустой платяной шкаф, мою железную кровать с тумбочкой и письменный стол, а я переехал в большую комнату к отцу. Учительница активно нам помогала, вся разрумянилась и захотела принять душ и переодеться в домашнее, так ей стало жарко. Мы торжественно внесли в маленькую комнату ее большой желтый чемодан, положили на кровать, отец сыграл на губах туш, и она принялась в нем, в чемодане, то есть, рыться. Замелькали лифчики, трусики, халатики, и мы стеснительно удалились. Пусть молодая женщина покопается в своем барахле без стороннего глаза. Пока она мылась и переодевалась, отец предложил сыграть партию в шахматы. Играл он плохо, я еще хуже, получались не шахматы, а поддавки какие-то. Но было весело! Мы быстренько сыграли, и отец пошел на кухню попить водички. Ну, засвербило у человека в глотке, с кем не бывает. Только вот пить воду пять минут... Я тоже пошел «попить водички» и застал отца за нелицеприятным занятием. Он стоял на табурете возле окна «кухня – ванная» и вцепившись в широкую раму обеими руками, смотрел в стекло, а в его домашних брюках шевелился бугор! Отец тоже заметил, что я смотрю на его бугор и жестом подозвал меня. — Там она... моется! – прошептал он. – Скоро будет одеваться! Он осторожно сполз с кухонного табурета, а я на него забрался. Я никак не думал, что отец будет, как я. Это я бы забрался на табурет, чтобы потом подрочить на голую Марию Ивановну, на то, как она, придерживая груди, выбирается из ванной, осторожно вытирает груди и еще более осторожно промакивает черные кудрявые волосы между белых ног. Больше я ничего не разглядел, потому, что позорно спустил в трусы. Оля не пришла ни после обеда, ни вечером. Говорят, что у них там после первого раза все болит, а, может, мать расхворалась, или Ольгин отец опять возжелал юного тела. Ну, и не надо, потому что совсем рядом со мной сидела молодая учительница, одетая в домашний застиранный халатик, на ее голых ногах красовались мамины старые шлепанцы, а на голове – бумажные рожки. Это, чтобы на утро быть кудрявой. Мы сидели совсем рядом и смотрели телевизор, а отец собирался в командировку. Зазвонил телефон, и я, первый, подбежал и поднял трубку. — Да? Наверное, мой голос сильно похож на отцов, потому что невидимый на том конце провода собеседник сразу сказал: — Николаич, собирайся, завтра летим на Онегу. Я положил трубку на тумбочку и позвал отца. Он разговаривал куда меньше, чем смотрел за моющейся учительницей, и сразу начал собираться, то есть, положил в «тревожный» чемоданчик две коробки зубного порошка, трубку и мешочек трубочного табака «Нептун». Обычно он не курил, а на полигоне лютые комары, а летом – особенно. Наверное, я немного погрустнел, потому что отец сказал: — Всего-то на два месяца! Но зато потом обещают колоссальную премию, дачный участок и сборный финский домик! И еще. Он сходил в сберкассу и вручил Марии Ивановне пачку денег. Зеленые и желтоватые купюры. При этом сказал, глядя ей прямо в карие глаза: «Ни в чем себе не отказывайте!». Интересно, кого он имел в виду, только ее или нас двоих? Ночью, как тогда перед отъездом матери на гастроли, я был разбужен шумом, стонами и яростным сопением. Я даже смотреть не стал, потому что это мой отец драл мою учительницу. Получалось, что он ее купил? И возможно, для меня? Вопросы без ответов, и бессмысленные. Утром отец встал очень рано, тщательно выбрился и спрятал бритву и бритвенный крем «Старт» в тот же чемоданчик. «Вот и все!», – сказал отец. За ним пришла машина, и он немного торопился. — А завтракать? – растерянно спросила учительница. — В самолете поем, – ответил отец и махнул рукой. Он прогрохотал сапогами по лестнице, заворчал мотор, и наступила тишина. Мария Ивановна еще долго стояла у окна, потом распахнула балконную дверь и впустила в квартиру утреннюю свежесть и шум просыпающегося города. — Там в школу не пора? – недовольно спросил я, хотя прекрасно знал, что не пора. — Рано, – ответила учительница. – Можно еще поваляться. И ушла в маленькую комнату. На ней была короткая рубашка с бретельками, высоко прикрывавшая груди и совсем не прикрывавшая круглый упругий зад в панталончиках до середины бедер... Оля, как всегда, поджидала меня у подъезда, но до школы я шел с Марией Ивановной, а Оля со своим портфелем и сменной обувью в синем мешке тащилась сзади. На первом же уроке она решила устроить мне выволочку. Она не шептала, а злобно, как змеюка, шипела мне на ухо: — Выходит, мне отставка? Выходит, подержались, и все? Так она шипела добрых полчаса, мне это надоело, и я сказал: — Выбирай! — Что? — Ты – Санчо Панса или дон Кихот? Если бы я промолчал, то Оля стала плакать или ударилась в припадок, стуча затылком и пятками по доскам пола. — Что? Я повторил. — Я помогать люблю, – чуть подумав, прошептала Оля. – Значит, Санчо Панса. — Я, как рыцарь печального образа, тебя никогда не брошу, и не променяю ни на Марию Ивановну, ни на Наташку. Честное благородное слово! При этом я выразительно, как в кино, положил ладонь на Ольгину руку и слегка сжал. Она потянула носом и всхлипнула. — Ладно, – примирительно сказала Оля, опять шмыгнув носом. – Я сегодня зайду. Пообжимаемся! Из школы они шли уже вдвоем. Я на большой перемене зашел в учительскую и попросил Марию Ивановну не торопиться. Она обещала задержаться на полчаса, на час. За литературу и русский язык я теперь не беспокоился, и иногда думал, вот бы поселить у себя директора школы. Но и так было неплохо. Скоро придет из школы учительница, а пока была Оля в школьном платье, черном фартуке и прозрачных колготках с трусами. Едва они вошли в прихожую, Оля сразу начала «обжиматься», то есть, прижалась ко мне всем телом и обхватила руками за шею. «Ну, что же ты, Сашка?!», – с обидой сказала Оля. – «Я одной за двоих стараться?». Ну, я ее тоже обхватил за шею с нежными кудрявыми волосками и повел к дивану. — Если ты будешь хорошо вести, я покажу тебе волосики! – заворковала Оля, снимая с меня пиджак. В ответ я стянул с нее фартук. Без фартука школьные девушки были словно голые. А она расстегнула и вытащила из моих штанов светлую рубашку. А я снял с нее коричневое платье, оставив Ольгу в старых трусах и лифчике. Чтобы подровняться, я позволил Оле снять с меня брюки. Мы стояли близко-близко, она в лифчике и трусиках, я в майке и трусах. — Дальше? – спросила Ольга, и я кивнул. Она сама сняла лифчик, а я – майку. — Надо же! – с удивлением сказала Оля. – У тебя сосочки, как у меня! Она понажимала на мои соски, и мои трусы надулись как парашют. Ее соски, конечно, были другими, длиннее и ярче, чем у меня. Оля взяла себя за грудки и поводила твердыми сосками по моим соскам. Затем стянула с себя трусики, а я, наконец, освободил член из сатинового узилища своих трусов. — Я тебе обещала показать свою дырку! – с придыханием сказала Оля, опрокидывалась на диван. Она раздвинула ноги и растянула за волосы свои «ломтики». — Смотри! Сашка, смотри! Видишь? Я присел и уставился в ее раскрывшуюся щель. — Есть там целка или нет? — Вроде нет, – протянул я. – Не видно. Надо пощупать, или лампой посветить... Я протянул к ее дырке руку, но Оля ее перехватила. — У тебя руки грязные! – воскликнула она. – Давай этим! Она указала на мой член, но не назвала его ни хуем, ни членом, ни елдой. Я в первый раз в жизни задвинул девушке ЕГО, но ничего, кроме температуры и влажности, определить не мог. ТАМ было тепло и влажно, как в оранжерее на ВДНХ. — Ну, как? – задыхаясь, спросила Ольга. – Нашел? — Что? — Целку? — Нет. Твой отец – знатный пахарь! — Ладно. Тогда просто пошевелись, словно ЭТИМ строгаешь доску на уроке труда. «Строгал» я Олину «доску» совсем недолго, ну, может, минут пять. Потом из меня потекла «смола», и я присел на диван отдохнуть. — Что-то ты быстро! – недовольно сказала Оля. – Мой отец делал это примерно полчаса. Ладно, я тогда сама. Она сунула в волосы руку и стала там что-то тереть, кривясь, словно собиралась плакать. Я снова присел, силясь рассмотреть это что-то, и увидел Олину «штучку», очень похожую на крошечный член. Но она терла не его, она терла рядом, сделав из пальцев вилочку. Этой вилочкой Оля тоже работала недолго, тоже минут пять, но, когда она сжала ноги, согнув их в коленях, и затряслась, я понял, что она так кончила. — Ну, и как тебе? – спросила Оля, едва отдышавшись. — Если честно, то рукой лучше! – сознался я. – А тебе? — И мне тоже. — А как твоя мать? Все лежит? — Лучше, намного лучше! – обрадовалась Оля. – Сегодня встала и пошла на кухню есть, что я приготовила. Я был рад за Олю. Она была для меня своим парнем в юбке и со щелкой. Мне хотелось поднять ее на руки, как маленькую, прижать к себе и носить по квартире. Оля оделась и ушла, я тоже оделся и стал ждать Марию Ивановну. Возможно, учительница где-нибудь стояла и ждала, когда Оля выйдет, но она пришла очень быстро и с порога спросила: — Ну, как все прошло? И я показал ей два больших пальца: — Отлично! Хотя я ожидал чего-то большего. Мария Ивановна прошла в свою комнату и стала там переодеваться в домашнее. Но после Оли мне подглядывать за ней не хотелось... Мария Ивановна, оказывается, не теряла времени даром, и пока Оля показывала мне свою дырочку, прошлась по магазинам и накупила всего- всего и даже черной икры. Мы так наелись, что я не мог даже говорить, и уснул за столом. Проснулся я уже вечером. Я лежал на диване в разобранной постели и голый! — А, проснулся! – обрадовалась учительница. — А почему я голый? — Это я тебя раздела. Спать в одежде не гигиенично. Я тоже теперь не буду спать в одежде. — Значит, мы не будем стесняться друг друга? — Не будем. — Значит, мы будем ходить по квартире голыми? — Будем. Знаешь, за рубежом есть такие пляжи, где все купаются голыми, и ничего. — Я бы не смог. — А я не знаю. Было бы интересно попробовать. — Когда начнем... не стесняться? — Думаю, завтра. — Тогда где мои трусы? — Я их постирала. Сейчас принесу. Думаю, высохли. Она сушила их в ванной, на трубе-полотенцесушилке. Принесла, отдала и села напротив. — Я их надену? — Надевай. А я посмотрю, вдруг трусы сели. Кажется, трусы, и правда, сели, потому что я едва запихнул в них свой торчащий член. А Мария Ивановна сидела совсем близко и смотрела, как я мучаюсь. — Знаешь, – сказала она задумчиво. – Давай дома обращаться друг к другу на «ты». — Давайте, давай! — И без отчества. Я Маша, ты Саша! Она действительно была очень молодой, и почти не пользовалась косметикой, только брови и ресницы, а моя мать пользовалась, по часу просиживая возле трюмо. Мать была особенно страшной с утра, после того, как ее повалял отец. А Мария Ивановна, Маша, по-домашнему, была свежей все время. Она протянула руку. — Познакомимся? Маша! Я пожал ее мягкую ласковую ладонь и ответил: «Саша». — Вот и славно! Теперь иди учить уроки, Саша! А про уроки-то в свете последних событий я и позабыл! — Уже иду! За уроками я как-то позабыл про ужин, а Маша – нет. Она принесла мне теплого молока и булочку. Жадно съел и запил молоком, вот только пенку выловил мизинцем. — Не любишь? — Не-а. — Дай-ка я! Маша слизнула пенку с пальца да еще его пососала, смешно втянув щеки. — Больше ничего не хочешь? — Нет. — Тогда спать! – скомандовала Маша и ушла в свою комнату, а дверь не закрыла. Там она принялась шуршать одеждой и вздыхать, а потом позвала меня. — Слушай, это чья кровать? – спросила Маша, стоя перед разобранной постелью. Она была опять в очень короткой маечке на бретельках и кружевных панталончиках по фигуре. — Моя. А что? — Вот и хорошо, а то я подумала, вдруг я супружеское ложе оскверняю, то, се... Я тоже вздохнул: — Супружеское... ложе... нафталин какой-то. Почему-то все придают этому слишком большое значение, супружеское ложе, супружеская спальня, супружеская кухня, супружеская ванна.... И сюда до кучи для особых извращенцев супружеский балкон. Вроде все. Хотел я Маше предложить осквернить мой диван, да уж ладно. Лег спать на гудящий пружинами диван. Едва накрылся одеялом, как пришла Мария Ивановна и села на край. — Что-то не спится, – сказала Маша. – У вас есть снотворное? — Нету. Мои родители после скачек спят, как убитые. Маша была удивлена: — Они играют на скачках? — Они играют друг с другом. — А ты не хочешь... со мной... как с Олей? Даже, если бы я не хотел, все равно бы захотел, потому что Машина рука нырнула под одеяло, а потом и вовсе его откинула. При скупом свете одинокого фонаря она стянула с меня трусы и уставилась на мой член. Почему это так устроено, что, сколько не смотри на женщин, хочется еще смотреть на белые вздрагивающие груди, на выпуклый живот с дырочкой пупка, на заросли под ним, и на то, что скрывают эти заросли. — Хочешь посмотреть там? – прошептала Маша. – Сравнить с Олей? Она почему-то шептала, хотя мы были одни. — Хочу... Маша встала и сняла все с себя, и панталончики по фигуре и очень короткую маечку на узких бретельках. Затем занесла ногу, и ее щель оказалась возле моего лица. Потом опустилась еще ниже и с чавканьем раскрылась. Юрка Пантюхов говорил, что женщины воняют. Маша не воняла, и Оля не воняла, они пахли, и пахли по-разному. Оля пахла щами и кухней, а Маша – речной свежестью и тинкой, как кувшинки в деревне. А еще у Маши что-то торчало и смутно блестело, словно перламутровая пуговка. Я потрогал эту пуговку, упругую и горячую, Маша охнула, и на меня что-то закапало, словно весенняя капель или слезы. — Маша! – сказал я. – Ты «там» плачешь? — Это слезы радости и желания, – прошептала учительница. – Женщинам иногда очень хочется, и тогда из них капает. Если бы ты знал, как трудно удержаться, когда перед тобой толпа десятиклассников, и у каждого в штанах – член! У меня была мечта: раздеть вас всех, построить и выбирать, как Екатерина Вторая, жеребца на ночь. А жеребчик вот он, лежит! Она отклонялась назад все больше, а ее щель раскрывалась все шире, пока мой член не уперся ей в спину. Тогда она отодвинулась от моего лица, нависла над членом и принялась его запихивать в себя. Она кряхтела и водила членом вдоль щели, и вдруг он провалился в Машу, в горячую и мокрую теснину. Тогда она задвигалась вверх-вниз, словно на качелях, и принялась постанывать: «Ах, ах!» при каждом движении. Это продолжалось долго, полчаса, час, или пять минут, пока мой член не вздрогнул у Маши внутри. Тогда она сильно откинулась назад и тут же легла на меня, зажав член между животами. Ну, и все! Маша тоже начала «строгать доску», и я опять дал «смолу». Второй раз за день! Потом она обтерлась моим полотенцем, вытерла себе живот и волосы под ним, но не пошла в другую комнату, а прилегла боком на диван, положив голову на мое, надо думать, широкое плечо. «Вдруг захочется еще, – прошептала учительница, устраиваясь поудобнее. Теперь я мог сравнивать. Оля была тощая и костлявая, и грудки у нее были маленькие и упругие, словно теннисные мячики, а кожа шершавая. Кожа у Маши была очень гладкая, словно теплый мрамор, а груди, будто воздушные шары, в которые налили воду. И волос у нее было куда больше, чем у Оли. Но это почему-то не мешало моему члену. Короче, я заснул, и увидел во сне маму. Она была голой, и шла, широкая, белая, раскрыв объятия, но не ко мне, а к Долинскому, который тоже был голый. Она села на его член и поскакала, а я проснулся. Из кухни вкусно пахло, и я, как был голый, словно Долинский во сне, прокрался на кухню. Маша, вся в солнечном свете, словно греческая богиня Эос, стояла у плиты и дарила одновременно яичницу с докторской колбасой и хлеб. Один лишь фартук прикрывал ее спереди, а сзади она была открыта. Я подошел и обхватил Машу сзади, а мой член уютно устроился в ложбинке между бархатных Машиных ягодиц. — Все же подгорит! – грозно сказала учительница, и я отстал. Конечно, я бы ее отжарил перед школой, как она хлеб. Но есть я хотел чуть больше, чем Машину сладкую дырочку. — Тогда после школы? — Какая школа! – засмеялась Маша. – Сегодня воскресенье! Позавтракаем, погуляем, может, в кино втроем сходим. — Втроем? — Ну, да. Оля уже дежурит. Ты уж ее не обижай. Я и не думал ее обижать, я хотел носить на руках и прижимать к себе эту трепетную девушку Олю. Наверное, я ее любил, но я любил и Машу, и отца, и мать, и безыдейного хулигана Юрку, и его наглую сестру Лельку. Я всех любил, правда, по-разному. Оля, и правда, уже стояла внизу и смотрела на наши окна. Я ей помахал, и она мне помахала. Хорошая девушка Оля! Вот только одета плоховато. — Давай мы ей что-нибудь купим, – предложил я. – Перед кинотеатром зайдем в магазин, и купим. Например, белье. — Сегодня мы можем купить разве что хлеба! – назидательно сказала Маша. – По воскресеньям промтовары не работают. А белье я ей из своего подберу. У вас машинка есть? У нас была машинка, электрическая. Отец подарил матери на день рождения. Да разве актриса будет шить? Так и стоит наш «Веритас» в углу под чехлом. — Есть у нас машинка. — Тогда зови! Я рванулся на балкон, но учительница меня успела схватить за руку. — Куда ты, голый! Пришлось одеться. Оделась и Маша. Так нашему нудизму пришел конец. Оля вошла в прихожую и включила дурочку, словно у нас не была ни разу, ах, где у вас вешалка, ах, где у вас свет включается. «Кончай ломаться!», – тихо сказал я ей. – «Мария Ивановна все знает». Оля даже присела. — И про отца? — Нет, про отца не знает. — Тогда ладно. Пока я разговаривал и вешал Олино пальтецо, Маша успела открыть свой бездонный чемодан и разложила белье на кровати. — Ой, какая красота! – вскрикнула Оля, прикладывая ладони к щекам. – Продаете? — Дарю! – важно подбоченясь, сказала Мария Ивановна. – Выбирай! — А можно все? — Можно! Только меряй! Оля ахала и прикладывала к себе то лифчик, то трусики. Я смотрел и посмеивался в душе. Олин бюстик был явно маловат, да и задок должен быть пошире. — Ты меряй, а не прикладывай! – строго сказала Маша. – А я ушью. Она уже включила машинку и делала пробный шов на тряпочке. — То есть, надеть? – растерялась Оля. — Снимай все, и примеряй. — Тогда пусть он уйдет! Он – это я, и я был удивлен. Не далее, чем вчера Оля была оттрахана лично мною, и вдруг такой отлуп! Я ушел на кухню и уселся на табурет с оскорбленным видом. Хотя с другой стороны женскими делами должны заниматься женщины. Делать все равно было нечего, и я еще пожарил хлеба и сделал кофе. Это все – в трех экземплярах. На примерку Маша и Оля меня все-таки позвали. Что сказать, вчерашнее Олино бельишко было дрянь, а Мария Ивановна – большая искусница по части шитья. Потом мы выпили кофе с тостами, и пошли в кино. Мы с Юркой уже ходили на «Спартака», но я удовольствием посмотрел не только войну и драки, но эпизоды с Варинией. А все потому, что справа сидела учительница, а слева – Оля, и я обеих гладил по коленкам. А вечером меня ждала неприятность, можно сказать, беда. Из почтового ящика выпал конверт, адресованный лично мне, на котором я узнал мамин почерк. Она давно не писала, только присылала открытки с видами, а тут целое письмо! Я его вскрыл прямо в прихожей, и из конверта выпала единственная фотография: Долинский в оттопыренных плавках и мать в купальнике. При этом они так ласково смотрели друг на друга, что я все понял без чтения письма на обороте. А написано там было вот что: «Сын! Надеюсь, что ты меня правильно поймешь. Я люблю Долинского, и больше не люблю твоего отца. Осенью я подам на развод и создам другую семью». Когда я вошел в комнату, где сидели и мило беседовали учительница и ученица, конверт и фото все еще были у меня в руках. Оля и Маша даже привстали с дивана, такое у меня было лицо. Оля подбежала и выхватила у меня плохие вести, а Маша только коротко спросила: «Беда? Что-то с мамой?». — Да. Она опять выходит замуж. Потом я рыдал на груди то у Оли, то у Маши, а они меня успокаивали, гладили, как маленького, по голове и поили валерьянкой. А ближе к ночи позвонил отец с Онеги. Он только сказал: — Получил? — Получил. — И я получил. Жди, буду! И повесил трубку. Он приехал только на следующий день к вечеру. К этому времени я отупел настолько, что был как полено, из которого шарманщик Карло сделал Буратино. Разумеется, в школу я не пошел, и Оля не пошла. Она неотлучно находилась при мне, что-то варила, и чем-то кормила с ложечки. Маша ушла в школу, но быстро вернулась. Что-то прорвало на пятом этаже, и полздания затопило. Приехала аварийка, и всех выгнали. А мне на все было наплевать, я лежал, заботливо укрытый одеялом по самую шею и страдал, придумывая планы мести Долинскому и, что тут греха таить, маме. Я собрался поджечь их театр во время репетиции или отвернуть какую-нибудь гайку в чреве театрального автомобиля, или перепилить трубу. напустить газа и взорвать театр ко всем чертям. Только выходило, что все время могли пострадать невинные люди, и я отметал один план за другим. Мой измученный разум начал отказывать, вместо Оли мне мерещилась мама, и ее руку я яростно отталкивал. Все это продолжалось, пока не приехал отец. Он набрал в кружку ледяной воды из-под крана, медленно вылил мне на лоб и сказал: — Пойдемте, дамы и господа, отделять зерна от плевел. Он так называл мамины вещи и одежду. И еще он сказал: — Она для нас как бы умерла. Мы отдадим Долинскому ее вещи, а что не возьмет, выкинем или отнесем в детский дом. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Остаток вечера мы ковырялись в маминых вещах и относили их на балкон. Я отцу не перечил, да и дамы не перечили, так он был черен и страшен. К рассвету мы вчерне закончили сортировку, отец выпил стакан водки и уснул на супружеском ложе, уснула Маша, уснул и я. А Оля ушла к себе. Ее маме с каждым днем становилось все лучше. И я был рад хотя бы за нее, раз у нас было так хреново. Хорошо, что мать больше не появилась в нашей квартире. Приехал Долинский, и пришел Олин отец, участковый. Долинский полдня один таскал мамины вещи, отец стоял у окна в другой комнате, а Олин отец стоял и следил следи за обоими. Старые вещи Долинский забирать с балкона не стал, и мы закрыли их брезентом. Потный, словно попал под ливень, Долинский ушел, ушел и участковый, сочувственно пожав нам руки. Отец, наконец, отошел от окна и сказал: — Кажется, стало легче дышать? Все, начинаем новую жизнь. Думаю, девушки нам помогут. Захочешь ее увидеть, ты знаешь, где ее найти. Отец упорно не называл имени матери, говорил «она», «ее». На следующий день отец опять улетел на Онегу, я пошел в школу, и Оля пошла. Наверное, Мария Ивановна тихонько рассказала завуч о моей матери, и все учителя смотрели на меня сочувственно и к доске не вызывали. День прошел хорошо, спокойно, и я начал, как сказала Маша, оттаивать. Нам с Олей Мария Ивановна не мешала. Правда, мы больше не трахались, а только дрочили друг другу. Оля трепала мой член, а я трогал ее клитор и тер волосатые губы. Маша стояла рядом и смотрела, как мы это делаем, и тоже терла свою пуговку. В общем, идиллия в отдельно взятой квартире. К ночи Оля ушла, а Маша стала со мной разговаривать. — Хочешь, я поживу у вас пока? – спросила Маша, навалившись на мое плечо мягкой грудью. Я кивнул. Через пять минут опять: — Мне съехать или остаться? — Остаться. Через три минуты снова: — Я вам не надоела? — Нет. Через две минуты: — Хочешь, поиграем в нудистов? Вот! С этого и надо было начинать! А то съехать или не съехать?! Как там у Пушкина? «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу?». Что же это за герой такой, который спустить не может? Мы истерически быстро разделись, причем я сорвал с нее лифчик, а она – с меня майку, но Маша осталась в трусах. При этом она смотрела на меня как-то испытующе. — Мне совсем немного осталось до неблагоприятных дней, не захочешь же ты иметь меня в презервативе? Я затряс головой так, что она едва не оторвалась: — Буду, конечно, буду! — Вот и хорошо! – обрадовалась учительница. – А то перед месячными мне всегда жутко хочется! Это означает, что яйцеклетка готова к слиянию со сперматозоидом. Она показала мне упаковку с презервативами. — А что делать-то? Я еще ни разу не надевал презерватива, поэтому был в легком недоумении. — Мы сначала будем целоваться, потом ласкать груди, клитор, мошонку и член, потом ты войдешь в меня, а когда поймешь, что скоро, вытащишь, и я нацеплю тебе резинку. — Рискованно, – задумчиво сказал я. – Могу не успеть. И вообще, я толком еще ни с кем не целовался, и уж точно не ласкался, а вот член сунуть могу, это точно! — Ладно! – решительно сказала Маша. – Я буду тобой руководить. Мы сели на диван, и она стала мной руководить, то есть засунула мне в рот свой язык и стала сосать мой. Потом она спросила, заглядывая мне в глаза: — Нравится? Нравится? — Нет! Если и сосать, то не язык. Маша задумалась. — Даже не знаю. Давай попробуем... Я встал, а Маша, наоборот, встала на колени. Учительница, а стоит на колени перед учеником! Это мне понравилось. Но мне понравилось еще больше, когда она взяла в рот мой член, точнее, одну головку, точно спелую сливу, и снова стала посасывать и полизывать сверху и снизу. Снизу мне понравилось намного больше. Потому что я едва не... — Подожди, Маш, иначе наспускаю тебе полный рот. Давай твою резинку надевай! Но не суждено мне было примерить прозрачный костюмчик для маленького водолаза. Маша старалась, но не успела его натянуть, потому что я обфоршмачил и ласковые руки, и Машино доброе лицо. Она вытиралась полотенцем и меня успокаивала: — Будет время, будут и танцы. Давай-ка спать ложиться. И мы легли, и я заснул, и приснилась мне не мама, а Маша. Она была в старом мамином халате, который теперь лежал на балконе, укрытый брезентом, смотрела на меня и говорила: «Сынок, ты в школу не опоздаешь?». Через месяц состоялся суд, и отца с матерью развели. Еще через месяц отец женился на Марии Ивановне, а с следующему сентябрю я женился на «своем парне» Оле. Вот такая история...
102771 36 137 Комментарии 11
Зарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора Makedonsky
Не порно, Пикап истории, Мастурбация Читать далее... 108739 210 10 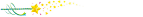 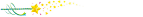 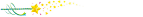 |
|
© 1997 - 2026 bestweapon.one
Страница сгенерирована за 0.027834 секунд
|

|