




|


 |
|
|
|
30 дней. день 7-9 Автор:
Ren79
Дата:
19 сентября 2025

Седьмой день начался не с её пробуждения, а с вторжения. Стук в дверь был тихим, почти вежливым, но в тишине спальни он прозвучал как выстрел. Она заворчала во сне, пытаясь ухватиться за остатки сна. Дверь скрипнула. Она открыла слипшиеся глаза, и сознание медленно возвращалось к ней. Первое, что зафиксировал её мозг, — это запах. Свежесваренный кофе. Тёплые тосты. Это было так... нормально. Так прекрасно. Она моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд на фигуре в дверном проёме. И тогда она увидела. Не поднос. Не улыбка. Не его лицо. Первое, что бросилось в её затуманенный сонный взгляд, — это оно. Багровое, огромное, напряжённое до каменной твёрдости, поднятое почти до самого живота. Член. Его член. Вены проступали под кожей, словно тёмные змеи, головка была влажной и блестела в утреннем свете, пробивавшемся сквозь шторы. Он стоял у её изголовья, совершенно голый, держа поднос с завтраком, как какой-нибудь языческий жрец, приносящий дары. Его поза была спокойной, почти небрежной, как будто его нагота была самым естественным явлением на свете. Она застыла. У неё перехватило дыхание. Кровь отхлынула от лица, а затем прилила обратно обжигающей волной. Её собственное тело под тонкой тканью ночной рубашки мгновенно вспотело. Соски, ещё не видевшие света, затвердели и болезненно упёрлись в ткань. А внизу, между ног, возникло знакомое, влажное, предательское тепло, нарастающее с каждой пульсацией того, что она видела перед собой. «Д... Дима...» — её голос сорвался на хриплый сдавленный шёпот. Она инстинктивно натянула одеяло повыше, до подбородка, пытаясь спрятаться, отгородиться. Но её взгляд не мог оторваться. Он скользил по его бёдрам, плоскому животу и снова возвращался к тому, что висело между ними, — огромному, требовательному, реальному воплощению всего, что происходило в последние дни. «Я приготовил завтрак, мама», — сказал он, и его голос звучал на удивление спокойно, обыденно, как будто он не стоял перед ней голый с налитым кровью членом. Он сделал шаг вперёд, приблизив поднос, а вместе с ним и себя. Запах кофе смешался с его собственным, мужским, животным запахом. Она отшатнулась, прижимаясь к изголовью кровати, и вцепилась пальцами в одеяло. Унижение, стыд, дикое, всепоглощающее возбуждение — всё это смешалось в ней в клубящийся, оглушающий вихрь. Он пришёл не просить. Не требовать показа. Он пришёл демонстрировать. Показать ей то, в чём ей было отказано. То, что сводило её с ума. И делал он это под маской заботы, с подносом в руках. Это было настолько изощрённо, настолько гениально жестоко, что у неё перехватило дыхание. Её взгляд метнулся от его лица к члену и обратно. Она была поймана, пригвождена к кровати, совершенно беспомощная перед этой новой, ужасающей формой доминирования. Её мир сузился до одного единственного, пульсирующего маятника. Он поворачивался с преувеличенной, театральной неловкостью, якобы ища место для подноса, и его член, тяжёлый и налитый, качался из стороны в сторону, описывая дуги в сантиметрах от её лица. Она не могла оторвать взгляд. Это было гипнотически, ужасающе, унизительно прекрасно. Каждое движение заставляло воздух колыхаться, и она чувствовала его животное тепло на своей коже, вдыхала его чистый, мускусный запах. Её губы рефлекторно приоткрылись в немом, жаждущем «О». И тогда это случилось. Он сделал ещё один «неловкий» поворот, и твёрдая, бархатистая головка с лёгким, почти шлёпающим звуком "чмок" ударила её по щеке. Она аж подпрыгнула на кровати, глаза расширились от шока. Но он уже двигался дальше, и следующий удар пришёлся прямо по её губам, влажный и тёплый. "Ммпф!" — вырвалось у неё, и её язык на долю секунды инстинктивно коснулся солоноватой кожи. Это длилось мгновение, но для неё растянулось в вечность. Удар. Запах. Вкус. Её всё тело вспыхнуло, и между ног стало мокро и горячо одномоментно, как будто её ударили током. И тут же он «нашёл» место — тумбочку рядом с кроватью. Поставил поднос с идиотской, нелепой аккуратностью. Чашка даже не звякнула. «Приятного аппетита, мамочка». Его голос был сладким, почти невинным. Он повернулся и пошёл к двери. Его голая спина, его расслабленная походка — всё это было частью спектакля, частью пытки. Он остановился в дверях, не оборачиваясь. «Нам бы сегодня по магазинам прогуляться. Купить что-нибудь тебе. Давай через два часа.» И он ушёл. Оставив её сидеть в кровати с тлеющими щеками, с губами, которые всё ещё чувствовали тот шлепок, с разумом, перемалывающим эту новую, изощрённую жестокость. Он не просто унизил её. Он накормил её своим членом, как ложкой каши, и предложил ей «приятного аппетита». А потом, будто так и надо, назначил свидание. Свидание с матерью, которую только что отхлестал по лицу своим эрегированным членом. Она медленно, на автомате, подняла руку и коснулась пальцами своих губ. Они горели. Потом она посмотрела на поднос. Кофе. Тосты. Всё идеально. И всё абсолютно отвратительно. Через два часа. Магазины. «Купить что-нибудь тебе». Эти слова звенели в её ушах новым, зловещим смыслом. Он будет выбирать для неё вещи? Какие? Ещё более откровенные? Ещё более унизительные? Она сглотнула комок в горле. Её рука дрожала, когда она потянулась к чашке с кофе. "Ххха..." — вырвалось у неё, и это был звук полного поражения, смешанного с лихорадочным, ненавистным себе предвкушением. Она провела следующие два часа в состоянии анабиоза. Душ она принимала на автомате, её пальцы скользили по коже, которая всё ещё помнила тот удар. Она одевалась — самое простое, закрытое платье — и ловила себя на мысли, что оценивает его в зеркале с точки зрения него. Понравится ли ему? Сможет ли он легко его снять? Ровно через два часа она сидела в гостиной, на краешке дивана, сложив руки на коленях, как послушная девочка, ожидая, когда её поведут покупать новые игрушки для их извращённой игры. Дима вошёл в зал не как сын, а как режиссёр, оценивающий костюм главной актрисы перед премьерой. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по её скромному платью, и она инстинктивно сжалась, почувствовав себя голой, хотя была одета с ног до головы. «Нет, мама, это платье не подойдёт.» Его слова прозвучали как приговор, ровно, без эмоций. Он не кричал, не требовал. Он констатировал факт. Он подошёл ближе, и она почувствовала, как по её спине пробежал холодок. Его глаза изучали вырез, ткань, покрой, будто ища изъян. «Я подумал, мы потом сходим в какую-нибудь хорошую кафешку поужинаем, а потом в кино на вечерний сеанс.» Он говорил о самых обыденных, почти семейных вещах, но его тон превращал их в нечто зловещее. Ужин. Кино. Это звучало не как предложение, а как часть сценария, который он для них написал. Он сделал паузу, давая словам просочиться в неё, как яд. «Иди переоденься.» — Он медленно обвёл её фигуру взглядом, и его губы тронула едва заметная ухмылка. — «И нижнее белье не надо.» Воздух вырвался из её лёгких с тихим, свистящим звуком «Ссс...». Она почувствовала, как её лицо заливается густым, стыдливым румянцем. Это было не просто указание надеть что-то более откровенное. Это было приказание идти совсем голой под платьем. Лишить её последней, жалкой крупицы защиты, последней иллюзии приличия. Он отправлял её на публику, в ресторан, в кинотеатр, заставляя осознавать каждое движение ткани по её обнажённой коже, каждое дуновение ветра, каждый взгляд посторонних мужчин, который мог бы угадать её секрет. Она стояла, парализованная, её разум метался между паникой и порочным, предательским возбуждением от такой наглости, от такого абсолютного контроля. «Д-дима... но... люди...» — попыталась она возразить, но голос сорвался на жалкий шёпот. Он не стал ничего объяснять. Не стал спорить. Он просто поднял бровь, вопрошающе, и его взгляд стал ещё тяжелее. Молчаливый приказ. Невыполнимый. Неприемлемый. Её ответ был не отказом, не капитуляцией. Это был контрудар. Тихий, но смертельно точный. Она подняла на него взгляд, и в её глазах, помимо стыда и возбуждения, вспыхнул холодный, расчётливый огонёк. Он играл в жестокость? Она ответит дерзостью. «Ну тогда пошли со мной, скажешь, что одеть, а что снять...» — её голос дрожал, но не от страха, а от адреналина. — «...и если я пойду без нижнего белья, то и ты тоже.» Он на мгновение замер, и она увидела в его глазах искру удивления, почти уважения. Она не просто соглашалась. Она поднимала ставки, втягивая его в свою орбиту унижения. Она превращала его приказ в пари, в совместный грех. Он молча кивнул, и они прошли в её спальню. Воздух там был спёртым, наполненным запахом её духов и вчерашнего возбуждения. Она начала раздеваться. Не с вызовом топ-модели, как раньше, а с методичной, почти ритуальной медлительностью. Платье упало на пол бесшумной грудой ткани. Пальцы потянулись к застёжке лифчика на спине. Щёлк. Бретели соскользнули с плеч, и тяжёлая, налитая грудь высвободилась, соски сразу же набухли от прохладного воздуха и его пристального взгляда. Затем она наклонилась, снимая трусики, скользнув ими по бёдрам, и выпрямилась перед ним. Абсолютно голая. Без прикрас, без намёков. Только её тело — пышное, зрелое, следы времени, следы желания, вся её история, выставленная перед ним. Она не пыталась прикрыться. Она стояла, выпрямив спину, позволяя ему видеть всё: вздымающуюся грудь, тремор в животе, влажный блеск между дрожащих бёдер. Её дыхание было частым, поверхностным. «Ххх... вот...» — выдохнула она, и голос её звучал хрипло, по-новому, не матерински. Она отвернулась к шкафу, её движения были немного скованными, каждое колебание ягодиц, каждый изгиб спины — на виду. Она достала четыре платья. Не коктельные, а именно вечерние, но с намёком. Чёрное, обтягивающее, с высоким разрезом. Тёмно-синее, с глубоким V-образным вырезом спереди и сзади. Изумрудное, из струящегося шёлка, полупрозрачное при определённом свете. И красное, короткое, дерзкое, с открытыми плечами. Она разложила их на кровати, на ещё тёплом от её тела месте, и обернулась к нему. Её губы тронула странная, нервная, эротичная улыбка. Она положила руку на бедро, сознательно выставляя себя. «Выбирай, » — сказала она, и её голос прозвучал низко, ласково, соблазнительно. Это был не вопрос покорной рабыни. Это было предложение соучастника. Сообщника. Выбирай, во что ты оденешь свою голую мать, чтобы вести её ужинать и в кино. Выбирай, какую именно деталь нашего общего позора ты хочешь выставить на всеобщее обозрение. Она замерла, ожидая, её тело было напряжённой струной, звучащей от стыда, ненависти и порочного, неконтролируемого возбуждения. Игра входила в новую, совершенно непредсказуемую фазу. Его слова — «у тебя всё тело очень красивое» — прозвучали не как комплимент, а как холодная констатация факта, оценка собственности. Он не стал выбирать что-то откровенно шокирующее. Его выбор был тоньше, изощреннее. Сарафан с запахом. Такая элегантная, «приличная» вещь. Но он знал, что её коварство — в этой самой возможности запаха разойтись, обнажив всё в самый неподходящий момент. Пояс, который можно затянуть, подчеркнув фигуру, или, наоборот, ослабить одним неловким движением. А потом он протянул ей маленький, обтекаемый предмет. Его фраза «это вибро яйцо, от него тебе будет приятно, когда я захочу» была ключевой. Он не просто давал ей игрушку. Он вручал ей её собственное возбуждение, но пульт дистанционного управления оставлял у себя. Делал её удовольствие заложником своей воли. Вопрос «что это, Дима?» был риторическим, ненужным. Она прекрасно понимала. Но он озвучил это, назвав вещь своим именем, вбивая гвоздь позора ещё глубже. И она, без единого слова возражения, взяла его. Её покорность была оглушительной. Она легла на кровать, на ещё теплое от её тела место, и раздвинула ноги перед ним — не с вызовом, а с отчаянной, жадной готовностью. Пальцы дрожали, когда она поднесла яйцо к своей киске, уже налитой, блестящей от возбуждения. "А-ах..." — её голова запрокинулась на подушку, когда она ввела его внутрь, чувствуя, как прохладный гладкий силикон заполняет её, обещая неведомые до сих пор ощущения. Это было актом гораздо более интимным, чем все предыдущие показы. Это было проникновение. По её доброй воле. По его приказу. Она поднялась, и новое ощущение внутри заставило её пошатнуться. Каждый шаг отзывался тихой вибрацией, глухой, но неумолимой. Она надела сарафан, и ткань, скользнув по её обнажённой коже, по соскам, по животу, по бёдрам, стала ещё одним источником почти болезненного чувствительности. Она завязала пояс, подчёркивая талию, и почувствовала, как полы сарафана таят в себе угрозу разлететься. И тогда её голос прозвучал с новой, неожиданной силой. «Теперь твоя очередь, снимай трусы, Дима!» Это был не приказ равного. Это была попытка раба потянуть за цепь, чтобы почувствовать её протяжённость. Проверить границы его правил. Он, не моргнув глазом, без тени смущения, расстегнул джинсы, стянул их вместе с трусами и отшвырнул в сторону. И снова он предстал перед ней во всей своей наготе. Его член, уже полувозбуждённый от зрелища, качнулся, и её взгляд прилип к нему с гипнотической силой. Мысленно она уже чувствовала его на своем языке, его солоноватый вкус, его твердость. "Мммф..." — чуть слышно вырвалось у неё, и она непроизвольно сглотнула. Они стояли друг напротив друга в её спальне. Она — в элегантном сарафане, под которым не было ничего, кроме вибрирующей игрушки внутри неё. Он — полностью обнажённый, его тело было открытой книгой, полной уверенной, почти высокомерной силы. Воздух трещал от напряжения, от немого вопроса: что будет дальше? Этот поход по магазинам, этот ужин, это кино... это будет адская, восхитительная пытка для них обоих, и она, затаив дыхание, ждала её начала. Поездка в машине была немой пыткой. Каждый поворот, каждое нажатие на тормоз заставляло виброяйцо внутри неё смещаться, посылая по телу короткие, предательские разряды. Она сидела, стиснув зубы, глядя в окно, но видела не улицы, а отражение его спокойного, сосредоточенного лица в стекле. Он вёл машину, совершенно голый под джинсами, которые надел перед выходом, и этот факт сводил её с ума сильнее любой наготы. В торговом центре её охватила паранойя. Казалось, каждый прохожий смотрит прямо сквозь тонкую ткань сарафана, видит её наготу, чувствует тихое гудение внутри неё. Она шла чуть позади него, как послушная собачка, её плечи были напряжены, походка — немного скованной. Магазин одежды стал первым рубежом. Он выбирал платья с видом знатока, оценивая не красоту, а степень откровенности. Два платья, которые он одобрил, были шедеврами разврата, замаскированными под haute couture. Одно — из струящегося шёлка, настолько тонкого, что под ним ясно читался любой рельеф тела. Другое — кожаное, обтягивающее, с заниженной проймой, почти до сосков с молнией на груди. Она кивала, улыбаясь напряжённой, восковой улыбкой, и чувствовала, как влага от возбуждения и стыда пропитывает её изнутри. Но настоящий ад ждал в магазине нижнего белья. Он не пошёл с ней в примерочную. Просто протянул ей три комплекта — кружевные сети, кожицу, почти прозрачную, и один особенно похабный, состоящий из нескольких ремешков. «Покажи мне», — сказал он просто, включив на своём телефоне видео-звонок. Она зашла в кабинку, её сердце колотилось где-то в горле. Она положила телефон так, чтобы он видел всё. И затем началось шоу. Она красовалась. Сознательно, отчаянно, с надрывной грацией проститутки, пытающейся понравиться суровому сутенеру. Она поворачивалась перед зеркалом, демонстрируя, как кружево обвивает её ягодицы, как кожаный пояс подчёркивает талию, как жалкие лоскуты ткани лишь акцентируют её наготу. Она видела своё отражение — раскрасневшееся лицо, блестящие глаза, — и отражение его лица на экране телефона: холодное, оценивающее. И тогда он нажал кнопку. Виброяйцо внутри неё внезапно ожило. Не с ласковой волной, а с резким, требовательным, неумолимым гудением. «А-АХ!» — её тело дёрнулось, как от удара током. Она инстинктивно упёрлась руками в зеркало, чтобы не упасть. Зеркало стало прохладным под её ладонями. Волны удовольствия, грубого и безжалостного, били по ней, заставляя колени подкашиваться. Она закусила губу, пытаясь заглушить стон, но тихое «Мммннхх...» всё равно вырвалось наружу. Её глаза затуманились. Зеркало расплылось. Всё, что осталось — это всепоглощающая вибрация, разрывающая её изнутри, и его лицо на экране, наблюдающее за её унижением. Её рука, почти без её ведома, потянулась вниз, скользнула под резинку комплекта. Пальцы нашли её клитор, набухший и невыносимо чувствительный, и присоединились к вибрации, доводя её до грани безумия. Она уже почти там, почти... Щёлк. Тишина. Абсолютная, оглушительная тишина и пустота внутри. Вибрация исчезла так же внезапно, как и началась. Она застыла, согнувшись пополам, опёршись о зеркало лбом. Её пальцы всё ещё были прижаты к себе, тело дрожало в конвульсивных послесвечениях несостоявшегося оргазма. Разочарование было таким физическим, таким болезненным, что её чуть не вырвало. «Ч-чёрт...» — прохрипела она в пустоту, и слёзы злости и фрустрации выступили на глазах. Она потратила несколько минут, чтобы прийти в себя, чтобы стереть с лица следы экстаза и ярости, чтобы снова надеть этот проклятый сарафан. Когда она вышла из примерочной, её лицо было алым, как после тяжёлой болезни, глаза блестели лихорадочным блеском. Она не смотрела на него. Просто молча взяла купленные комплекты, её пальцы дрожали. Он принял пакет, его лицо оставалось невозмутимым. «Голодна?» — спросил он, как ни в чём не бывало. Она лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова, чувствуя, как пустота и неутолённое желание разрывают её изнутри. Игра продолжалась, и он вёл в счёте. Интимность их угла в ресторане была обманчивой. Каждый шёпот, каждый скрип стула, каждый гул голосов из зала доносился приглушённо, создавая иллюзию уединения, которую тут же разрушала возможность быть увиденным кем-то из-за ветвей декоративного дерева. Она сидела, стараясь держать спину прямо, каждый нерв её тела был натянут как струна. Вино, её любимое, которое обычно расслабляло, сегодня лишь подливало масла в огонь её и без того разгорячённого тела. И тогда он ушёл. Просто сказал «мама, я в туалет» и удалился. Она успела сделать лишь глоток, как знакомое, ненавистно-желанное гудение ожило глубоко внутри. Не резкое, как в примерочной, а нарастающее, коварное. Волны. Они накатывали медленно, откуда-то из самой глубины, заставляя её внутренности сжиматься в томном, мучительном ожидании, чтобы затем отступить, оставляя ледяную, невыносимую пустоту, и снова накатить. "Ххх... м-м..." — она стиснула зубы, её пальцы впились в край стола. Это была пытка томлением. Он вернулся и сел, его лицо было невозмутимым. «Дима, ты опять за своё...» — её голос прозвучал сдавленно, почти умоляюще. «Терпи, мама, и не показывай свои эмоции, » — отрезал он тихо, но так, что каждое слово впилось в неё как шип. Это был приказ. Приказ испытывать это на людях, притворяться нормальной, улыбаться, в то время как внутри неё бушевал, влажный шторм. Десять минут. Десять вечностей. Каждая набегающая волна заставляла её бёдра непроизвольно сжиматься, её ноги под столом дрожали. Её рука лежала на колене, и она с безумной силой желала рвануть её вверх, под подол, запустить пальцы в свою мокрую, пульсирующую плоть и наконец, наконец дать себе то, что оно так требовало. Ей хотелось застонать, закричать, опереться лбом о прохладную скатерть и просто поддаться. И в этот пиковый момент, когда очередная волна достигла своего крещендо, подошёл официант. Молодой парень с учтивой улыбкой, несущий их пасту. И Дима, не отрывая от неё холодного взгляда, достал телефон. Его палец скользнул по экрану. Буря. Виброяйцо внутри неё взорвалось. Не волнами, а сплошным, яростным, неумолимым вихрем, который буквально вырвал её из реальности. Её тело дёрнулось, спина выгнулась, она судорожно вцепилась в скатерть, чтобы не свалиться со стула. "А-А-А-хх!" — внутренний крик отдался в её ушах оглушительным гулом. Мир поплыл. Она видела, как официант что-то говорит, ставит тарелки, но слышала только белый шум и безумное гудение внизу живота. «...всё ли устраивает? Не принести ли вам ещё что-нибудь?» — донёсся до неё голос официанта, будто из-под воды. Дима что-то ответил, но она уже не слышала. Её тело, её нервы, её всё существо достигло критической точки. Нарастающая, долгая, мучительная стимуляция прорвала все плотины. Спазм, дикий, конвульсивный, прокатился по ней, заставляя её трястись как в лихорадке. Она не могла его сдержать. Официант, получив ответ от Димы, вежливо повернулся к ней: «А вам, мадам, что-нибудь принести?» И в этот миг оргазм, долгожданный, запретный, чудовищный по силе, накрыл её с головой. Её глаза закатились, губы приоткрылись, и из них вырвался не стон, а громкий, сдавленный, почти истеричный крик, который она уже не могла контролировать. «ДААААА!» В зале на секунду воцарилась тишина. Несколько голов обернулись в их сторону. Она резко, почти машинально, опомнилась. Щёки пылали адским огнем. Её грудь тяжело вздымалась. Она уставилась на официанта широко раскрытыми, полными ужаса и остатков экстаза глазами. «...ещё вина, » — выдохнула она хрипло, голос сорванный, неестественный. Официант замер на мгновение, его вежливая улыбка дрогнула, на лице отразилось крайнее смущение и недоумение. Он кивнул, бормоча что-то невнятное, и почти побежал прочь. Дима медленно отпил глоток сока, его глаза сияли ледяным, торжествующим удовлетворением. «Хорошая девочка, » — тихо произнёс он, и эти слова прозвучали для неё страшнее любого крика. Она сидела, уничтоженная, опустошённая, всё ещё мелко дрожа от отголосков оргазма и жгучего, всепоглощающего стыда. Она кончила на людях. Прямо в ресторане. И он заставил её сделать это. Тишина, наступившая после отключения виброяйца, была оглушительной. В ушах у неё всё ещё звенело от собственного крика и приглушённого гула ресторана. А потом она почувствовала это — тёплую, обильную влагу, стекающую по внутренней стороне её бёдер. Она не просто промокла. Её соки пропитали тонкую ткань сарафана, создав тёмное, позорное пятно на сиденье, и теперь медленно, неумолимо текли вниз, по коже. Каждый её мускул дрожал от пережитого потрясения, от стыда, от животной, опустошающей разрядки. Её разум был пуст, в нём осталось только одно, примитивное, властное побуждение. Она не думала. Она действовала на чистом инстинкте, на остатках адреналина и экстаза. Её рука, всё ещё дрожа, скользнула под подол, в ту горячую, липкую влагу. Пальцы погрузились в её собственную полноту, собрали её, и она вытащила руку, протягивая её через стол к нему. Пальцы блестели в тусклом свете ресторана. «На, попробуй меня, » — её голос был хриплым шёпотом, полным вызова и полной, абсолютной капитуляции. Это был не жест соблазнения. Это был акт каннибализма. Она предлагала ему самую свою суть, своё унижение, свой позор на вкус. Он не колеблясь ни секунды. Его рука — спокойная, уверенная — взяла её за запястье. Он притянул её кисть к своему лицу, и его глаза, прежде ледяные, внезапно смягчились, приобрели детскую, почти невинную жадность. Как у котёнка, которому поднесли блюдце с молоком. Он наклонился и стал облизывать. Медленно, тщательно, с почти научной дотошностью. Каждый палец, счищая с него её соки, его язык был тёплым и шершавым. Он причмокивал губами, его взгляд был опущен, полностью сосредоточен на процессе. «Ммм...» — тихо прорычал он, и это был звук чистого, не замутнённого наслаждения. Когда он закончил, её рука была чистой. Он отпустил её, и она упала на стол как плеть. «Мама, иди переоденься, приведи себя в порядок, » — сказал он, и его голос снова стал ровным, практичным. — «И вытащи это из себя. В дамской комнате.» Он сделал паузу, доставая из кармана её телефон. — «И не забудь включить его, когда будешь переодеваться. Я хочу видеть.» Она молча встала. Ноги едва держали её. Она чувствовала, как влага холоднеет на её коже, как тяжёлый, мокрый подол сарафана прилипает к ногам. Она взяла телефон и сумку с покупками и, не глядя по сторонам, пошла к туалету, чувствуя на себе десятки любопытных и осуждающих взглядов, реальных или воображаемых. В стерильной, пахнущей хлоркой кабинке дамской комнаты она закрылась на замок. Её отражение в зеркале было жалким: распухшее, раскрасневшееся лицо, испуганные глаза, растрёпанные волосы. Дрожащими руками она установила телефон на полку, направив объектив на себя, и нажала кнопку видео-звонка. Его лицо появилось на экране — спокойное, ожидающее. Она повернулась к нему спиной, к зеркалу, и медленно, с театральной медлительностью, развязала пояс сарафана. Ткань распахнулась, обнажив её спину, ягодицы, всю её наготу. Она дала ему насмотреться. Затем, наклонившись, она потянула за тонкий шнурок виброяйца. "А-ах..." — её тело содрогнулось, когда она извлекла его. Оно было мокрым, блестящим, маленьким инструментом её пытки. Она положила его в раковину, словно это было что-то грязное. Затем она достала из пакета новое платье — то самое, кожаное, обтягивающее. Процесс одевания был новым актом унижения. Каждое движение, каждое обнажение части тела перед камерой, каждый стон, когда ткань касалась её перевозбуждённой, чувствительной кожи — всё это было для него. Она ловила его взгляд на экране и чувствовала, как внутри снова закипает что-то тёмное и влажное. Она была его живой куклой, его порно-звездой, его матерью. И эта смесь была самой порочной и самой сладкой вещью, которую она когда-либо знала. Двадцать минут в уборной стали для неё странным, медитативным очищением. Она смыла с себя пот, стыд и остатки вина, заново нанесла макияж — не маскирующий, а подчёркивающий, соблазнительный. Она надела чёрное кожаное платье, и оно облегало её фигуру как вторая кожа, делая каждый изгиб, каждую линию тела совершенными и очевидными. Когда она вернулась к столику, это была уже не та сломленная, дрожащая женщина. Это была уверенная в своей власти грешница, принявшая свои оковы. Краска сошла с её лица, уступив место холодной, почти царственной уверенности. На губах играла лёгкая, загадочная улыбка. «Мама, ты великолепно выглядишь в этом чёрном платье, » — сказал он, и в его голосе впервые прозвучала неподдельная, почти сыновья гордость, смешанная с вожделением. «Спасибо, сынок, это всё твоя заслуга!» — парировала она, и её ответ прозвучал не как упрёк, а как признание. Он сделал её такой. Он вылепил из запуганной мещанки эту роскошную, порочную женщину. И тогда заиграла музыка. Не быстрая, а медленная, чувственная. «Мама, пошли потанцуем.» Он встал, протянул руку. Это был не жест сына к матери. Это был жест кавалера к даме. Она приняла его руку, и они вышли на импровизированную танцплощадку. Их тела сошлись в танце. Он держал её за талию, её рука лежала на его плече. Они двигались в унисон, их бёдра почти касались, дыхание смешивалось. Это не был танец родственных душ. Это был танец соблазнения, полный намёков, лёгких трений, затяжных взглядов. Она чувствовала его возбуждение через тонкую ткань платья, и её собственное тело отвечало ему, вспоминая недавнюю вибрацию. Они протанцевали три песни, запертые в своём пузыре страсти и извращённой близости. Когда они вернулись к столику, его рука не отпустила её талию. Он провёл её через зал, и она позволила, гордая, что принадлежит ему, что все видят, кому она принадлежит. Они допили вино. Воздух между ними был густым, насыщенным невысказанными словами и нереализованными желаниями. И тогда он нарушил заговорщическую тишину. «Чего-то не хватает...» — сказал он задумчиво, его взгляд скользнул по её декольте. — «Мама, оголи грудь и сиди с голой грудью. Так, как будто так и должно быть.» Она посмотрела на него. Старая, привычная паника на мгновение мелькнула в её глазах. «Дима, а если кто увидит?» «Не переживай, официант больше не придёт, а ты сидишь спиной к залу, » — ответил он с убийственной логикой. Это был приказ, замаскированный под заботу. Она задержала дыхание, затем медленно, с преувеличенной небрежностью, потянула за молнию на груди платья. Шипящий звук расстегивающейся молнии прозвучал оглушительно громко в её ушах. Ткань расступилась, и её грудь, полная, тяжёлая, с тёмными, набухшими от возбуждения сосками, вывалилась наружу, подставившись прохладному воздуху ресторана. Она не пыталась прикрыться. Она откинулась на спинку стула, приняв эту новую, нелепую позу, и подняла бокал с вином. Дима не мог оторвать от неё взгляд. Его глаза пожирали её, пили её наготу, и она видела, как его пальцы сжимают стакан с соком от напряжения. А она... она делала вид, что ничего не происходит. Она пила вино, вела с ним светскую беседу о чём-то отвлечённом — о фильме, который они собирались посмотреть, о погоде. Её голос был ровным, её улыбка — непринуждённой. Но под столом её ноги были скрещены так туго, что почти свело судорогой, а между ними снова, предательски, лилась влага. Она сидела с обнажённой грудью в полупустом ресторане и болтала со своим сыном. Это было самое безумное, самое унизительное и самое возбуждающее, что она когда-либо делала. Через тридцать минут они ушли. Она застегнула платье, её движения были плавными, будто она просто поправляла причёску. Она прошла через зал с высоко поднятой головой, чувствуя на своей коже воображаемые и реальные взгляды, пылая изнутри от стыда и гордости. Он шёл рядом, её создатель и её тюремщик, и она уже не могла сказать, где кончается одно и начинается другое. Темнота кинотеатра была не просто отсутствием света. Это была густая, бархатная пелена, которая скрывала их, поглощала звуки и превращала пространство в частный, изолированный мир. Светящееся полотно экрана, на котором разворачивались чужие драмы, было их единственным факелом, их частным солнцем, освещавшим их собственный, гораздо более пикантный спектакль. Как только заглавные титры сменились первыми кадрами, она двинулась. Не с колебанием, а с решимостью обречённой, идущей на эшафот. Она поднялась со своего кресла и встала перед ним, в проходе между рядами. Её силуэт, освещённый мерцающим светом с экрана, был сюрреалистичным и завораживающим. Она была живой тенью, богиней из другого измерения. Медленно, с театральной, почти болезненной медлительностью, она потянула за молнию на своём кожаном платье. Шипящий звук был слышен даже поверх саундтрека. Платье соскользнуло с её тела, упало на грязный пол кинотеатра бесформенной чёрной лужей. Она осталась стоять перед ним в одних только высоких каблуках, её тело — пышное, бледное, отмеченное игрой света и теней с экрана — было полностью обнажено. Каждый изгиб, каждая выпуклость, каждое колебание груди при дыхании было видно как на ладони. Она выглядела не реальной, а словно порождением самого фильма — роковой женщиной, сошедшей с экрана. Она опустилась перед ним на колени. Ковровое покрытие было грубым и холодным против её голой кожи. Её пальцы, дрожащие от адреналина, потянулись к его пряжке. Металл звякнул. Затем пуговица на джинсах, шипение молнии. Она стаскивала с него джинсы одним движением, и он помог ей, приподняв бёдра. Его член, уже напряжённый до предела, твёрдый как сталь и обжигающе горячий, высвободился и упруго качнулся перед её лицом. Она вернулась на своё место рядом с ним, но не отдаляясь. Её тело, всё ещё освещённое экраном, излучало жар. Она протянула руку и взяла его член в свою ладонь. Кожа была натянутой, шелковистой и невероятно горячей. Она почувствовала под пальцами каждую пульсирующую вену, каждую каплю крови, прилившую туда. И она начала гладить. Нежно, почти с благоговением. Её движения были медленными, исследовательскими. Большой палец провёл по вздувшейся головке, собрал выступившую каплю влаги и размазал её, смазывая, делая свои прикосновения ещё более скользящими и чувственными. «Ммм...» — её собственный стон был едва слышен, потерянный в грохоте экранных взрывов. Она смотрела не на него, а на его член в своей руке, на то, как он реагирует на каждое её движение, как дергается от её прикосновений. Свет от экрана подсвечивал её серьёзное, сосредоточенное лицо и её руку, совершающую свой нежный, развратный ритуал в полумраке публичного места. Она дразнила его, мучила той же нежной медлительностью, которой он мучил её весь вечер. Это была её месть. Её власть. Её полная, абсолютная капитуляция. Её вторая рука, до этого лежавшая на собственном бедре, скользнула вниз, в тёплую, уже готовую влагу между её ног. Пальцы нашли свой клитор, набухший и невыносимо чувствительный после всей вечерней пытки, и начали совершать над ним те же нежные, круговые движения, что и её другая рука — на его члене. Её тело начало жить своей собственной, симметричной жизнью удовольствия: одна рука отдавала, другая — брала. Её грудь тяжело вздымалась в такт этому двойному ритму, соски затвердели в прохладном воздухе зала, и каждый её выдох превращался в короткий, прерывистый стон, терявшийся в диалогах и музыке с экрана. Несколько минут они провели так, в этом немом, взаимном мастурбационном трансе, связанные только мерцающим светом и тяжестью дыхания. И тогда её голос прорвался сквозь шёпот, хриплый и влажный от желания: «Сынок... не хочешь помочь маме? Мне это... о-очень нужно...» — она не прекращала двигать рукой на его члене, её ритм даже участился, становясь мольбой, воплощённой в плоти. Она поймала его свободную руку — ту, что лежала на подлокотнике кресла, сжатую в кулак от напряжения, — и повела её к себе. Сначала она управляла ею, как марионеткой, прижав его ладонь к своей киске, заставив его пальцы ощутить всю ту горячую, липкую полноту, которую она сама себе доставляла. Она водила его рукой, показывая угол, нажим, скорость. А потом отпустила. И он... продолжил. Сначала неуверенно, почти робко, его пальцы скользили по её складкам, исследуя новую, запретную территорию. Но затем азарт, жадность, дикое возбуждение взяли верх. Его пальцы стали увереннее, настойчивее. Он углублялся в неё, один палец, потом два, находя внутри ту самую точку, от которой её тело вздрагивало и сжималось. Он не просто ласкал её — он изучал её, владел ею изнутри, и каждый его жест заставлял её закидывать голову на спинку кресла и глухо, сдавленно стонать. Её собственная рука, теперь свободная, немедленно потянулась к своей груди. Пальцы сжали тяжёлую, налитую грудь, большой палец принялся тереть и дразнить сосок, снова и снова, в такт движению его пальцев внутри неё. «Ах... да... вот так... мой мальчик...» — её шёпот стал громче, отчётливее, уже не пытаясь прятаться. Эти звуки были предназначены только для него, приправленные хрустом попкорна и выстрелами с экрана. Её тело извивалось на кресле, её бёдра сами начали двигаться, подыгрывая ритму его пальцев, ища большего, более глубокого проникновения. Она полностью отдалась ему, позволила ему делать с ней всё, что он хочет, и сама усугубляла это своими собственными прикосновениями. Это был дуэт разврата, симфония взаимного растления, разыгрываемая в полумраке на пять человек, которые были слепы и глухи ко всему, кроме вымышленной жизни на экране. Внезапность её движения была взрывной. Она сорвалась с кресла, как пружина, и в следующее мгновение её ноги уже стояли на его сиденье, по обе стороны от его бёдер, прижимая его к спинке. Её киска, мокрая, распухшая, пахнущая её собственным возбуждением и его пальцами, оказалась прямо перед его лицом. Она была так близко, что он мог чувствовать исходящий от неё жар. Одной рукой она вцепилась в изголовье кресла для равновесия, её тело изогнулось в напряжённой дуге. Другая рука рванулась вниз, и её пальцы не ласкали, а впились в неё с яростной, отчаянной силой. Это было не удовольствие — это было насилие над собственным телом, попытка вырвать у него последнюю каплю, добить себя. И она добилась. Судорога, дикая, неконтролируемая, выкрутила её тело. Из её сжавшихся внутренностей с силой, которую невозможно было сдержать, вырвался не просто поток, а настоящий фонтан её соков — густых, тёплых, с терпким, мускусным запахом. Он хлестнул ему прямо в лицо. Он инстинктивно рванулся назад, но её рука на изголовье превратилась в железную скобу, удерживая его голову на месте. "Нет!" — её крик был хриплым, повелительным. И фонтан бил ещё несколько секунд, слепя его глаза, заливая его нос, заставляя его давиться, когда струя попала ему в открытый от шока рот. Он чувствовал её вкус — солёный, горьковатый, животный — и её запах, который теперь навсегда въелся в его кожу. Как только конвульсии оргазма прошли, её тело обмякло. Она рухнула на него, вся мокрая, дрожащая, и в этом хаотичном падении его член, всё ещё твёрдый и направленный вверх, нащупал вход и вошёл в неё. "А-АХХ!" — её крик на этот раз был от неожиданности и боли, ибо вошёл он глубоко, до самого предела. Она выгнулась, её руки инстинктивно обвили его шею, прижимаясь к нему в поисках опоры, и на мгновение они замерли в этой чудовищной, интимной связи — мать, сидящая на своём сыне, с его членом внутри себя. Но это длилось три секунды. Не больше. Словно ошпаренная, она резко оттолкнулась от него, с характерным влажным звуком освободив его член. Она спрыгнула на пол, её движения были резкими, паническими. Не глядя на него, не вытираясь, она натянула на мокрое, липкое тело своё чёрное платье, даже не застегнув его до конца. Схватила сумочку и, не оборачиваясь, почти побежала по проходу к выходу, оставив его одного. Дверь в кинозал захлопнулась, поглотив её. Он остался сидеть. Ошеломлённый. Покрытый с головы до пояса её соками, которые медленно стекали по его лицу, капали с подбородка. Его член, всё ещё возбуждённый и блестящий от её внутренней влаги, болезненно пульсировал в прохладном воздухе. Он слышал её запах, чувствовал её вкус на своих губах. Он видел пустое кресло напротив. И тогда его ошеломление начало медленно, верно превращаться в нечто иное. В холодную, концентрированную ярость. Она использовала его. Довела себя на нём до исступления, осквернила его и сбежала. Оставила его в этом состоянии, покрытым её позором. Он медленно поднялся, его движения стали резкими, отрывистыми. Он не стал вытираться. Он натянул джинсы на липкую кожу, на влажный, неудовлетворённый член. Застёгивая ширинку, он посмотрел на экран, где кто-то смеялся. Его лицо, залитое её соками, исказилось в гримасе, в которой смешались, возбуждение и похоть. Он вышел из кинозала, его мокрая рубашка прилипла к телу. Он знал, куда она побежала. Домой. В свой безопасный, приличный дом. Но теперь это уже не было её безопасным местом. Он шёл по коридору, оставляя за собой слабый, но узнаваемый запах, и в его голове созревал один-единственный, ясный план. Она думает, что может закончить это, когда захочет? Она ошибается. Игра только начинается. И на этот раз правила будет устанавливать он. Полностью. Тишина в квартире была густой, натянутой, как струна перед разрывом. Он вошёл, и она замерла в своей постели, притворяясь спящей, но каждым нервом чувствуя его присутствие. Скрип половиц под его ногами был для неё громче любого крика. Он остановился в дверях её спальни. Она чувствовала его взгляд на себе, сквозь тонкое одеяло, ощущала его как физическое прикосновение — тяжёлое, оценивающее. Внутри у неё всё сжалось в тугой, влажный комок ожидания. Подойди. Сделай это. Возьми то, что ты так яростно требовал весь вечер. Закончи это. Но шаги отдалились. Послышался шум воды в душе. Она лежала, не двигаясь, и чувствовала, как её решимость, её готовность к полной, окончательной капитуляции, медленно сменяется леденящей пустотой и горьким недоумением. Что ему нужно? Он унижал её, доводил до животного состояния, заставлял кончать ему на лицо в публичном месте... а теперь просто пошёл спать? Это была новая, более изощрённая пытка — пытка невысказанностью, неопределённостью. Она ворочалась, её тело, всё ещё чувственное и возбуждённое от пережитого, не могло успокоиться. Но усталость была сильнее. Не физическая — мышцы почти не болели. Это была глубокая, тотальная эмоциональная истощённость. Она чувствовала себя выпотрошенной, как будто все её чувства, все нервы были вывернуты наизнанку, использованы и брошены. Сны, когда они наконец пришли, были беспокойными, полными образов дрожащих рук, яркого света экрана и чувства падения. Он же, под ледяными струями душа, смывал с себя её следы. Но не её запах. Он втирал гель в кожу, скрипел мочалкой, но терпкий, сладковато-горький аромат её оргазма, казалось, въелся в него навсегда. Он лёг в свою постель, и его мысли были хаотичными и яростными. Да, это уже не было просто наказанием за её измену отцу. Это стало чем-то иным. Грязным. Притягательным. Он хотел не просто унижать её. Он хотел владеть ею. Полностью. Телом и духом. Её паника, её стыд, её животная отдача — всё это стало для него наркотиком. Он уснул с чётким, холодным пониманием: он не удовлетворится ничем меньшим, чем её полное, добровольное рабство. Её побег из кинотеатра был последним актом неповиновения, который он ей позволит. Следующий день наступил тихий, пасмурный. Она проснулась поздно, с тяжёлой головой и ощущением подвешенности. Он уже был на кухне, спокойный, собранный, пил кофе. Он посмотрел на неё обыденным, почти скучным взглядом, как будто вчерашней ночи не было вовсе. «Доброе утро, мама. Выспалась?» Его обыденность была страшнее любой агрессии. Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и поспешила к кофемашине, чувствуя, как её руки дрожат. День отдыха. Возможно, для него. Для неё это была передышка в клетке, дверь которой он теперь держал на замке. И она не знала, когда и как он решит её снова открыть. Девятый день начался с непривычной тишины и лёгкого, едва уловимого аромата полевых цветов, смешанного с запахом свежесваренного кофе. Она проснулась не от звонка будильника или навязчивого присутствия, а от мягкого утреннего света, пробивавшегося сквозь шторы. И первое, что она увидела, повернув голову на прикроватный столик, было скромное, но трогательное зрелище: аккуратная тарелка с бутербродами, чашка дымящегося кофе и маленький, небрежно собранный букетик. Васильки, ромашки, колокольчики — простые, пахнущие летом и свободой. Рядом лежала записка, нацарапанная его уверенным почерком: «Мама, спокойного утра.» Сердце её ёкнуло. Не от страха, а от чего-то иного, более сложного и тревожного. Это была не его роль. Не роль мучителя. Это была роль... заботливого сына? Или это была новая, более изощрённая манипуляция? Она прижала букет к лицу, вдыхая свежий, чуть горьковатый аромат, и почувствовала, как по щекам сами собой покатились слезы. Глупые, непонятные слезы облегчения и смятения. Она не стала есть. Адреналин, странный и острый, подхлестнул её. Она сорвалась с кровати, накинула на плечи лёгкий халат и выбежала из комнаты. «Дима?» — её голос прозвучал непривычно громко в тишине квартиры. Кухня была пуста. Кофейник ещё был тёплым. Его комната — идеально убранная, постель заправлена, будто тут и не спали. Ничего. Ни звука. Она обошла всю квартиру, и с каждым шагом первоначальный порыв радости и благодарности начал сменяться холодной, тошнотворной тревогой. Где он? Почему он ушёл, не дождавшись её? Это наказание? Может, он сердит на неё за её побег из кинотеатра? Она вернулась в свою комнату, к остывающему кофе и увядающим цветам. Расстроенная, села на край кровати. Но в глубине души, под слоем недоумения и страха, копошилось другое чувство — щемящее, запретное волнение. Он думал о ней. Он нарвал для неё цветов. Он проявил внимание, которое не требовало немедленной, унизительной расплаты. Это была новая игра, с правилами, которых она не понимала, и от этой неизвестности её сердце билось чаще, а низ живота снова, предательски, наполнился тёплой тяжестью. Она не знала, что он задумал. Не знала, готовит ли он ей новый изощрённое извращение или это действительно передышка. И эта неизвестность, эта опасная, сладкая неопределённость, была, возможно, самым эффективным инструментом контроля, который он мог придумать. Она сидела и ждала, поглаживая лепестки василька дрожащими пальцами, полностью в его власти, даже когда его не было рядом. Он появился на пороге как раз тогда, когда длинные вечерние тени начали сливаться в единую бархатную синеву. В его руках болтались две безликие сумки из магазина, а на лице играла лёгкая, необременительная улыбка, словно он и вправду провёл день в беззаботной прогулке. «Ты где был, Дима?» — выпалила она, не в силах сдержать накопившееся за день беспокойство, смешанное с обидой. «Гулял немного. Встретился с друзьями, походил по магазинам, » — отмахнулся он, его взгляд скользнул по ней, оценивающе и быстро. — «Не взял телефон, забыл.» «Я переживала за тебя, » — призналась она, и в её голосе прозвучала неподдельная нота материнской тревоги, которая тут же смешалась с чем-то другим, более сложным. «Мама, всё хорошо. На улице летом поздно темнеет, и я уже взрослый парень, » — произнёс он, и в этих словах прозвучала не просьба, а констатация факта. Он переступил порог, отложил сумки в сторону. — «И у меня есть к тебе предложение. Не хочешь погулять со мной в парке? Там вечером очень красиво.» Предложение прозвучало так обычно, так по-соседски невинно, что на мгновение она опешила. Парк? После всего? После кинотеатра, ресторана, её соков на его лице? Это была ловушка. Это должно было быть ловушкой. Но его лицо было спокойным, открытым. «Я с удовольствием погуляю с тобой, » — ответила она, и её собственный голос показался ей неестественно высоким. Она развернулась и почти побежала в свою комнату, чувствуя, как щёки начинают гореть. Зайдя внутрь, она обернулась к дверному проёму, через который был виден кусочек коридора, и крикнула, стараясь, чтобы голос не дрожал: «Что мне одеть?» Его ответ пришёл немедленно, обжигающе-спокойный, брошенный через всю квартиру: «Оденься так, чтобы я удивился.» Дверь в её комнату притворилась. Она осталась одна перед своим распахнутым шкафом, сердце колотилось где-то в горле. «Так, чтобы удивился». Это не было указанием. Это был вызов. Испытание. Он проверял её, проверял, насколько глубоко она погрузилась в эту игру, насколько хорошо она его понимает. Её пальцы пробежали по вешалкам. Ничего простого. Ничего обыденного. Её взгляд упал на одну из новых покупок. Короткое платье-футляр из тончайшей чёрной материи, с глубочайшим V-образным вырезом на спине, доходящим до самой талии, и таким же смелым вырезом на груди, который требовал либо полного отсутствия белья, либо чего-то совершенно невесомого. Оно обтягивало каждую линию, каждый изгиб, превращая тело в откровенное предложение. Она надела его. Ткань холодно обняла её кожу, подчёркивая всё с безжалостной откровенностью. Нижнего белья она действительно не надела. Соски тут же набухли, отчётливо вырисовываясь под гладкой кожей. Она сделала макияж — яркий, акцент на губы и подведённые, немного хищные глаза. На ноги — лодочки на высоченной, почти невыносимой шпильке. Она посмотрела на себя в зеркало. Это была не мать, идущая на прогулку с сыном. Это была куртизанка, готовящаяся к свиданию с могущественным и капризным покровителем. Она глубоко вздохнула, поймав в отражении собственный взгляд — испуганный и в то же время полный тёмного, пьянящего возбуждения. Она вышла в коридор, её каблуки гулко стучали по паркету. Она остановилась перед ним, не опуская глаз, принимая его оценку. Её поза была вызовом. Он осмотрел её с ног до головы. Молча. Его взгляд скользнул по вырезу на груди, задержался на контурах сосков, упрямо проступающих через кожу, спустился вниз, к тому месту, где ткань обтягивала её лоно, затем поднялся по открытой спине. На его лице не было ни улыбки, ни неодобрения. Было лишь холодное, сосредоточенное внимание, словно он изучал сложный, но очень интересный механизм. «Идём, » — произнёс он наконец, его голос был ровным, но в нём слышалось глухое удовлетворение. Он повернулся и направился к выходу. Она последовала за ним, чувствуя, как на её спину, обнажённую почти до копчика, ложится его тяжёлый, одобрительный взгляд. Она угадала. И это было одновременно и победа, и самое страшное поражение. Он ненадолго исчез в своей комнате и вернулся с небольшим, неприметным рюкзаком, перекинутым через плечо. Она не спросила, что в нём. Спросить значило бы нарушить хрупкие, новые правила этой игры. Воздух в парке был тёплым и густым, пахло скошенной травой, цветущими липами и чуть уловимым запахом воды из ближайшего пруда. Сумерки уже окончательно победили день, окрасив небо в густой индиго, и первые, ещё робкие звёзды начали проступать сквозь дымку. Фонари зажигались один за другим, создавая островки жёлтого света в наступающей темноте. Она взяла его под руку. Её пальцы легли на его сгиб локтя легко, почти невесомо, но это был жест, полный смысла. Они шли не вразвалку, а в ногу, их тела ритмично покачивались в такт шагам. Со стороны они должны были выглядеть как все остальные парочки, заполнившие аллеи — влюблённые, поглощённые друг другом, живущие в своём собственном, маленьком мире, где нет места никому другому. И тут, проходя мимо густых, почти чёрных кустов сирени, они услышали это. Сначала — приглушённый смех. Потом — сдавленный, отрывистый стон. Женский. Высокий, пронзительный, полный такого незамутнённого, животного наслаждения, что у неё по спине пробежали мурашки. Затем — ритмичный, влажный шлепок плоти о плоть, тяжёлое дыхание. Рядом с этим импровизированным альковом как раз стояла одна-единственная скамейка, слабо освещённая старым фонарём, свет которого едва дотягивался до её краёв, оставляя сидеть в полумраке. «Давай, мам, присядем здесь, » — предложил он, его голос был спокоен, будто он предлагал присесть отдохнуть. «А мы не помешаем... там, людям в кустах?» — прошептала она, чувствуя, как её щёки пылают. Её собственная плоть отозвалась на эти звуки мгновенной, постыдной влагой. «Я думаю, им всё равно, » — парировал он, и в его тоне сквозила лёгкая, циничная усмешка. Они сели. Дерево скамейки было прохладным даже сквозь тонкую ткань её платья. И они стали слушать. Это была странная, сюрреалистичная симфония. Шёпот листьев, далёкий смех с другой аллеи, и вот это — близкое, громкое, животное проявление страсти. Стоны становились громче, отчаяннее, ритмичные звуки — быстрее. Она сидела, не двигаясь, чувствуя, как каждый её нерв натянут как струна. Её собственная киска предательски пульсировала в такт этим чужим толчкам. «Им однозначно хорошо, » — выдохнула она, и её голос прозвучал хрипло, почти завистливо. Это была констатация факта, полная тёмного, запретного любопытства. Дима промолчал. Он просто сидел, слушая, и она чувствовала, как мышцы его руки под её пальцами напряглись. Затем он резко встал. Звук внезапно оборвался — в кустах наступила тишина, будто пару там тоже насторожило его движение. «Мама, давай я тебя пофотографирую, » — объявил он, его голос прозвучал на удивление громко в наступившей тишине. — «Ты очень классно выглядишь в этом платье.» Он уже снимал с плеча рюкзак, доставая оттуда не телефон, а небольшой, но серьёзного вида фотоаппарат с внушительным объективом. Она согласно кивнула, её глотательный рефлекс сработал впустую. Это была не просьба. Это была следующая стадия. Она медленно поднялась, отойдя на несколько шагов, чтобы встать в пятно света от фонаря, превратившегося в импровизированную софит. Из кустов доносилось напряжённое, виноватое молчание. Они стали частью шоу. Он поднял камеру. Его лицо скрылось за ней. Он стал не сыном, а режиссёром. Хищником. «Повернись к кустам боком. Да, так. Голову чуть назад. Закрой глаза. Представь, что это тебя так трахают.» Его слова, отдавшиеся в тишине после внезапно стихших стонов из кустов, сработали как спусковой крючок. Они не были грубыми, они были точными, как хирургический скальпель, вонзающийся прямо в самый центр её подавленного желания. Она вздрогнула, и по её коже пробежала волна мурашек — часть стыда, часть дикого, неконтролируемого возбуждения. И она повиновалась. Её поза изменилась. Это уже не была неуверенная женщина, позирующая сыну. Её тело изогнулось в вызывающей, почти профессиональной арке. Она откинула голову, подставив горло лунному свету, глаза закрылись. В её воображении вспыхнули образы: чужие руки на её бёдрах, чужие губы на её шее, тот самый ритмичный, влажный звук, но обращённый теперь на неё. Она представляла. И её тело отвечало на эту фантазию, становясь более податливым, более жадным. Он не прекращал снимать. Щелчок затвора звучал как выстрел, отмечая каждую её новую, всё более смелую позу. С каждым кадром она отдавалась всё больше, сбрасывая последние остатки стеснения вместе с одеждой. Пальцами, дрожащими от адреналина, она потянула за бретельку платья. Тонкая ткань сползла с её плеча, обнажив одну грудь. Холодный воздух и тёплый свет фонаря ласкали набухший, тёмный сосок. Она задержалась в этой позе, предлагая себя объективу, её взгляд был затуманенным, губы приоткрыты в беззвучном стоне. Затем её руки скользнули вниз, к подолу. Медленно, с преувеличенной театральностью, она стала задирать его, обнажая сначала бёдра, затем — узкую полоску светлой кожи, которую обычно скрывало бельё, но которого сегодня на ней не было. Платье сползло до талии, а затем и ниже, упав тёмным ореолом вокруг её каблуков. Она стояла перед ним в одних только туфлях на шпильках, её тело — бледное и совершенное в ночи — было полностью обнажено для него и для любого, кто мог подсмотреть из темноты. Она начала двигаться, используя скамейку как опору. Она крутилась вокруг неё, её движения были плавными, похотливыми, танцем стриптизёрши, исполняемым для аудитории из одного человека. Она наклонялась вперёд, опираясь на спинку лавочки, выгибая спину и представляя ему свою упругую, полную ягодицу. Затем поворачивалась, закидывала ногу на холодное дерево сиденья, безжалостно раздвигая ноги перед объективом его камеры. И там, в скупом свете фонаря, он мог видеть всё. Всю её влажную, раскрытую, сияющую розовым плотью настолько, что она казалась неестественно яркой. Она не прикрывалась. Она сама раздвинула себя пальцами, демонстрируя ему свою самую сокровенную, смущённую и возбуждённую плоть, предлагая её для увековечивания. Её дыхание стало тяжёлым и частым, из груди вырывались короткие, прерывистые стоны. Она ловила его взгляд через объектив, её глаза блестели диким, почти безумным огнём полного подчинения и экстаза. Щелчки затвора учащались, сливаясь в сплошную трескотню. Он двигался вокруг неё, меняя ракурсы, ловя каждый её изгиб, каждую каплю влаги на её внутренней поверхности бедра, каждую дрожь, пробегавшую по её телу. Он документировал не просто наготу. Он документировал её полное моральное падение, её абсолютную, добровольную капитуляцию перед его волей. И она, пьянея от этого унижения и власти, отдавалась всё больше, пока не перестала понимать, где кончается она и начинается его воля. Именно в тот момент, когда она, изогнувшись над спинкой скамейки, демонстрировала ему всю глубину своей распахнутой, сияющей влагой страсти, кусты впереди зашевелились. Резко, с треском ломающихся веток. Она отпрянула как ошпаренная, с животным, паническим страхом быть уличённой. В одно мгновение её развратный транс сменился экстремальным ужасом. Она присела, буквально нырнув за скамейку, используя её как жалкий щит. Её голое тело прижалось к холодному дереву, сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен на всю аллею. Из кустов, поправляя одежду и отряхиваясь, вышли трое. Двое молодых парней и женщина. Девушка, та самая, чьи стоны только что сводили её с ума, смущённо поправляла короткое платье и одевала бретельку платья на обнаженную грудь. Один из парней застёгивал ремень. Второй, просто стоял, с довольной, немного глупой ухмылкой. И тут фонарь, их старый, верный соучастник, сделал своё чёрное дело. Его жёлтый свет упал прямо на их лица. В этот момент Дима машинально повернулся в их сторону и камера без вспышки сделала несколько фотографий. Мама замерла, её глаза расширились от шока. Её пальцы впились в дерево скамейки. «Боже...» — её шёпот был едва слышен, но в нём читался настоящий ужас. Жёнщина мельком повернула голову в их сторону. Её взгляд скользнул по скамейке, по фигуре Димы с фотоаппаратом, по торчащему из-за спинки клочку чёрной ткани. Ничего не поняв, не разглядев в полумраке, она тут же отвернулась, что-то шепнув своему спутнику. Они засмеялись и, обнявшись, трое из них двинулись прочь по аллее, в сторону пруда. Мама осталась сидеть на корточках, дрожа. Её возбуждение мгновенно испарилось, сменившись леденящим холодом предательства и жгучим стыдом. Она медленно поднялась, её лицо было бледным. «Если... если ты не хочешь продолжения, » — её голос дрожал, но в нём уже появилась новая, стальная нота, — «то пошли. Проследим за ними.» Она не ждала возражений. Она уже наклонялась, сгребая с земли своё чёрное платье. Она натягивала его на себя с такой лихорадочной поспешностью, что чуть не порвала тонкую ткань. Не пытаясь поправить макияж или придать себе вид, она лишь сгребла волосы в беспорядочный пучок. Её глаза горели уже не страстью, а холодным, яростным любопытством и удивлением. Дима молча кивнул, быстро убирая камеру в рюкзак. Его собственное возбуждение никуда не делось, оно лишь трансформировалось, стало более острым, более ядовитым. Это было уже не просто развращение матери. Это была охота. Они двинулись вслед за удаляющимися фигурами, сливаясь с тенями аллей, два призрака в ночи, преследующие трёх других, не подозревающих ни о чём призраков. Воздух был наполнен уже не ароматом цветов, а запахом назревающего скандала и горькой иронии. Дима на секунду задержался, резким движением откинув ветки сирени и заглянув в ещё тёплое, помятое логово. В слабом свете, пробивавшемся с аллеи, было видно всё: скомканную траву, пустую бутылку, и главное — четыре использованных презерватива, брошенные у ног скамейки, как похабные трофеи. Он не стал ничего трогать, лишь сжал зубы, и его лицо исказилось в гримасе, в которой смешались брезгливость и какое-то почти профессиональное любопытство. Он выдохнул облачко пара в прохладный воздух и бросился догонять мать. Они шли быстро, почти бежали по тёмным аллеям, но их преследование было тихим, как у теней. Поймали они троицу только на парковке у главного входа, где те уже садились в ждущее такси — старенькую белую иномарку. Дима резко отступил в густую тень за киоском с мороженым, давно уже закрытым на ночь. Он снова поднял камеру. Теперь, в свете уличных фонарей и фар машины, их лица были видны идеально. Он щёлкал затвором с холодной, методичной точностью: крупный план ухмыляющегося парня, помогающего девушке сесть в салон, второй, уже сидящий внутри, общее фото машины с номером. Каждый щелчок был как удар молотка, вбивающий гвоздь в крышку чужого гроба. Мать, прижавшись к стене киоска, дрожащими пальцами достала телефон и сфокусировалась на номере такси. Она продиктовала цифры себе под нос, записывая их в память, как код от сейфа с чужими секретами. Её глаза были широко раскрыты, в них читался не просто шок, а какое-то гипнотическое, почти болезненное оцепенение. Машина тронулась и скрылась в ночи. Они остались стоять в тишине, и внезапно наступившая тишина была оглушительной. Ничего не говоря, не глядя друг на друга, они повернулись и побрели домой. Их молчание было тяжёлым, густым, как смола. В квартире они разошлись по своим комнатам без единого слова. Дверь в её спальню закрылась с тихим, но окончательным щелчком. Дверь в его — тоже. Она не раздевалась. Она упала на кровать в том же самом чёрном платье, которое всего час назад было орудием соблазна, а теперь казалось саваном. Она смотрела в потолок, и перед её глазами стояли то четыре презерватива в траве, то довольное, знакомое лицо женщины в свете фонаря. Её собственное тело, ещё недавно горевшее от похоти, теперь было холодным и одеревеневшим. Шок медленно начал отступать, уступая место чему-то более сложному и гнетущему: жгучему стыду за себя и одновременно — колючему, запретному интересу к тому, что она увидела. Она заснула под утро, не раздеваясь, с телефоном, зажатым в руке. Он же сидел на краю своей кровати, перебрасывая снимки с камеры на ноутбук. Он увеличивал лица, изучал каждую деталь. Его первоначальная ярость и брезгливость сменились холодной, расчётливой концентрацией. Эти фотографии были не просто компроматом. Они были ключом. К чему — он ещё не знал точно. Но он чувствовал их силу. Он лёг спать с чётким планом на утро: найти таксиста. Прошёл девятый день. Наступил десятый. День отдыха. Но отдыха от чего? От собственной развращённости? От шока открытия? От нависшей в воздухе неизбежности того, что должно было случиться дальше? Квартира молчала. Каждый был заперт в своей комнате со своими демонами. 37623 157 31 Комментарии 2 Зарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора Ren79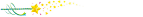 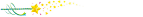 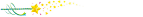 |
|
© 1997 - 2026 bestweapon.one
Страница сгенерирована за 0.012693 секунд
|

|