




|


 |
|
|
|
История моего грехопадения... Автор:
ЗООСЕКС
Дата:
18 сентября 2024

История моего грехопадения... / Автор Лев Куклин / 2007 год В то памятное мне послевоенное лето 1947 года, по странному стечению обстоятельств наш пионерский лагерь расположился в зоне бывшего лагеря, для заключённых фашистов, под Новгородом. Видимо, совсем незадолго перед нашим приездом, тот лагерь не то расформировали, не то просто перевели в другое место нашего обширной страны, под названием СССР. От него всё сохранилось в целости.
— Высокий забор из пятиметровых, посеревших, от времени и дождей сосновых досок был заново отремонтирован. Сразу бросались в глаза белые свеж ошкуренные доски, которыми в некоторых местах были заменены старые, сгнившие. С них тягучими медовыми каплями сочилась смола. Новые заплаты были поставлены также тщательно и добротно. Доски, без зазоров и щелей подгонялись так плотно одна к другой, что между ними нельзя было просунуть не то что ладонь, но даже лезвие перочинного ножа. Колючая проволока своими оржавленными жалами щетинилась не только поверх забора. Несколько её рядов, подобно фронтовым заграждениям, окружали забор снаружи. По четырём углам большого прямоугольника, очерчивающего лагерную территорию, хранили зловещее молчание вознесённые, над колючкой сторожевые вышки, для охраны лагеря. Три сотни метров непрерывного крепкого забора, от вышки, до вышки согласитесь, это внушало уверенность...
— Но если в своем дальнейшем рассказе я буду употреблять, к примеру, выражение «Лагерные порядки», это уважаемые читатели, будет относиться уже к "Пионерскому лагерю Орлёнок"...
— Сохранились и бараки, теперь они гордо именовались спальными корпусами, заново побеленные и продезинфицированные после фашистов. И в них размещались не трёхъярусные нары, а наши скромные железные коечки со скудными, просвечивающими на сгибах и потёртостях одеяльцами сиротского цвета. Запах негашёной извести и карболки шибал в нос и стойко пропитывал всё вокруг.
— Ещё раз повторяю: это было странное, хотя и вполне жизненное стечение обстоятельств. Страна была в полной разрухе к тому же, в самом-то деле, зачем добру напрасно пропадать! Решили партийные власти Новгорода...
Жаловаться было не на что. Шло второе послевоенное лето, освещённое салютом Победы, славное, но тем не менее, очень трудное и голодное. А в пионерском лагере "Орлёнок", как-никак, была кормёжка. Да, какая-никакая, а три раза в день в ребячьи желудки перепадало то, чего у многих не было дома. Не надо было матерям заботиться, о куске хлеба, чтобы накормить своих детей. Была и тарелка пшённой каши с ямкой, заполненной жёлтой лужицей растительного масла, и миска картофельного супа с одиноко плавающими в ней редкими серыми волоконцами мясного происхождения...
Лагерная столовая, тоже не изменил своего привычного местонахождения. Но о ней, ещё пойдёт речь дальше. И ещё прежними были клопы такие крупные, свирепые звери, которых не брали никакие облавы, никакие снадобья, а от дуста, которым время, от времени их присыпали, они только жирели...
— Моя койка в бараке, виноват, в лагерном корпусе! Cтояла у окна. Эта кажущаяся маловажной деталь в дальнейшем будет иметь особое значение. Я помыкавшийся, по самым невообразимым местам был уже довольно опытным коммунальным жителем, поэтому защищался, от клопов испытанным способом. Ножки моей койки стояли в четырёх жестяных банках, из-под тушёнки, в которые, до половины была налита вода. Но лагерные клопы оказывались хитрее. Если им не удавались лобовые атаки из матрасов набитых соломой, фланговые вылазки, со стен и обходные маневры по полу, то они применяли тактику воздушных десантов, выползали на потолок и оттуда лихо пикировали на свои жертвы! 3а это удивительное свойство летающие клопы прозывались у нас «Юнкерсами».
— Вообще-то говоря, я был уже, взрослым молодым человеком восемнадцати лет и в пионерский лагерь. Учитывая мою комсомольскую работу в техникуме я попал, как говорится, в лагерь в качестве вожатого по путевке Комитета Комсомола на всё лето. Осенью мне должно было исполниться девятнадцать лет. Я не выглядел особенным акселератом, в то время этого о витаминизированного понятия, ещё попросту не существовало! Но тем не менее, я выделялся, конечно, и ростом, и развитием среди мелко породной пионерской мелюзги преимущественно десяти-двенадцатилетнего возраста.
— Официально у меня была должность с длинным названием: «Помощник старшего пионервожатого, по культурной и спортивной работе». Потому что, хоть фактически я и проводил с малышами зарядку, учил их плавать и оформлял стенды в пионерском уголке, денег мне никаких не платили, и жил я не отдельно, с другими пионервожатыми, а вместе с одним, из отрядов в общем корпусе на тридцать коек.
— Теперь самое время сказать о Глаше-поварихе. Точнее, она была не поварихой, а подсобницей на кухне. Настоящая повариха необъятных, как и полагается, размеров тетя Маша скрывалась в загадочных глубинах нашей столовой и на белый свет появлялась редко, чаще всего к вечеру, после отбоя. А Глаша полное имя её было Глафира досталась нам, так сказать, в наследство. За что уж она угодила в тот, не наш, лагерь одному богу было известно. Теперь-то она была так называемая рас конвоированная, то есть, ей оставалось отбыть совсем немного, до конца своего срока, но за хорошее поведение она могла жить уже не в зоне и без вооруженной охраны, работая почти что на вольных хлебах. В данном случае это выражение можно считать буквальным...
— Ей было лет тридцать пять, и на пионерских харчах она быстро округлилась, налилась жизнерадостным румянцем, стала гладкой, довольной и смешливой. С вечно розовым свежим лицом, на котором едва заметно проступали мелкие веснушки, в галошах на босу ногу, она лихо орудовала вёдрами и неподъёмными кастрюлями, наполняла водой баки, для чая и компота, а во время обедов или ужинов, в белом халате и косынке, с благословенным черпаком в руках, колдовала у окна раздаточной, весело покрикивая и поторапливая дежурных и наполняя им котелки и миски.
После начальницы лагеря старой и сморщенной, как печёное яблоко, учительницы-пенсионерки Розы Марковны Розенталь, Глаша-повариха была, для нас главным лицом: она нас кормила. Всё остальное пионерское начальство, от старшей воспитательницы до младших пионервожатых, тоже составляли женщины. Единственным исключением являлся одноногий возчик и лагерный конюх Егорыч, инвалид ещё Первой империалистической войны, ловко управлявшийся, со своими гужевыми обязанностями на своей деревяшке. По слухам, с ним «Жила» повариха тётя Маша, женщина тоже далеко, за пятьдесят, но это нас, как вы сами понимаете, не касалось, а больше мужским духом в лагере и не пахло...
Помещалась Глаша-повариха, со своей напарницей Ефросиньей, женщиной невидной и тихой, тоже, кстати, бес конвойной, там же, где и столовая, в крохотной комнатёнке, за кухней. Раньше это, видимо, был склад или нечто в этом роде на окне сохранилась железная решётка.
Несколько раз я там бывал, принося своё нехитрое бельишко. За небольшую плату Глаша, кое-кому простирывала грязное бельё. В комнатке было всегда жарко, потому что одной своей стеной она примыкала чуть ли не вплотную к огромной, вечно топящейся плите. В комнатке была одна широкая кровать, вернее деревянный топчан на козлах, столик, приткнувшийся к окну, с висевшей на нём вместо занавески наволочкой и два табурета. На стене красовалось ещё зеркальце с облупленной по краям фольгой в раме, из голубых бумажных фестонов и всё.
— Своим торцом столовая выходила на лагерную площадь, где сколочена была трибуна и высилась мачта с красным флагом, поднимавшимся каждое утро, под хриплые захлебывающиеся звуки горна. Площадка перед трибункой была вообще без травы, и вообще внутри лагерного периметра находилась своеобразная микропустыня, ни деревца, ни кустика.
— Время, от времени мы сталкивались с Глафирой, звали друг друга по именам, обменивались несколькими словами, но разница в возрасте была, понятно, очень ощутимой, и если бы кто-нибудь спросил меня: нравится ли мне Глаша, я не смог бы вразумительно ответить на такой вопрос.
В начале второй смены установились жаркие июльские дни. Да и тихие ночи тоже не приносили прохлады. Пионервожатым было разрешено купаться и после отбоя, когда мы укладывали малышей. Разумеется, мы пользовались этим разрешением вовсю, и иногда отправлялись купаться в полночь, когда низкое, не раскалённое, а красноватое солнце не заходило совсем, а только краем касалось вершин окружающего леса... И вот в эти томительные белёсые и бессонные ночи, встречая вдруг Глашу, я с какой-то тревогой ощутил, что она взглядывает на меня, как-то по-другому, по-особенному, без привычной смешливости и лёгкости.
Она пыталась, со мной заговорить, но я всякий раз ускользал, от разговора с ней и из этого ничего не получалось. До одного случая...
Как-то однажды, я сидел, за столом в своём корпусе и рисовал обширный заголовок, для лагерной стенгазеты. Весь лагерь, от младших, до старших ребят отправился на уборку сена в соседний колхоз. Это было взаимовыгодное дело, мы помогали ближнему колхозу в посильных работах, а он подкидывал немного продуктов.
Лагерь был совершенно безлюдным, отбыл даже Егорыч, увозя на своей кобылке два бака с борщом и кашей.
Но мне было поручено непременно сделать газету к возвращению героев трудового фронта, и я старательно, по трафарету, выводил на огромном ватманском рулоне большие киноварные буквы. Ватман похрустывал, как накрахмаленный. В бараке было довольно прохладно, и высовываться в раскалённый полдень совершенно не хотелось.
Дверь была приоткрыта, и поэтому я не слышал, как в корпус вошла Глаша. Шла она, вдобавок, босиком, и я почувствовал, её дыхание только тогда, когда она остановилась, за моей спиной и стала оглядывать мою работу. И я как-то не обратил особенного внимания, или не придал значения тому, что она прикрыла дверь и накинула крючок на неё...
Вот... почему-то шёпотом произнесла Глаша, я тебе бельё принесла Валера. Глаженое... И я увидел наверху небольшой стопки, которую она мне протягивала на вытянутой руке, лежащие сверху жёлтые трикотажные трусики... Вот с них-то всё и началось...
— Это твои... А я тебя-то в них видела... Лукаво и смущённо продолжала шептать Глаша. Коечка-то твоя у окошка, я иной раз ночью и пробегу да на тебя и гляну. Ты разметавши спишь, жарко, одеяло сбросишь... Ох, думаю, какой хорошенький! На двоюродного моего брата Ивана похож, да один всё, один, и приласкать-то его некому...
— Я твои, жёлтенькие-то трусики, тогда и приметила... И у меня такие же...
Время было трудное, и я не слишком-то задумывался, мужские они, эти трусики, или женские, поскольку выбора в тогдашних магазинах, как вы понимаете, всё равно не было. А на стопке сверху, полыхая пронзительным цветом яичного желтка, лежали мои трикотажные трусики...
Но Глаша, видимо, оценила возникшую паузу, по-своему. Она просыпала стопку белья на ближайшую койку, подошла вплотную, ко мне и вдруг распахнула свой белый халат...
Трусы у неё, действительно, были того же яркого жёлтого цвета, но размеры их превосходили размеры моих скромных трусиков раза в четыре, плотно облипая могучие здоровые молодые ляжки. Лифчика на ней не было вовсе, и её освобождённые налитые груди так и уставились на меня торчащими сосками.
— Дай-кось я тебя поцелую... Прошептала она мне в ухо.
Конечно, я целовался с девчонками, начиная с пятого класса, но это было... так, игра, стыдливые и осторожные прикосновения, без разжимания губ. А тут на меня обрушились сочные, долгие, зовущие поцелуи бывалой молодой женщины, которая знала, чего хотела, и добивалась этого...
— Да ты погладь меня-то... Тяжело дыша, приговаривала она. Погладь, миленький...
Но поскольку я стоял, как столб, она, своей крепкой шершавой ладонью обхватив мою безвольно разжатую руку, стала гладить ею себя по груди, по животу, всякий раз опускаясь ниже и соскальзывая к волнующему шелковистому пушку между ногами... Мою руку словно бы всякий раз окунали в кипяток!
Потом её пальцы нетерпеливо взялись, за мой ещё не коронованный скипетр... И я с потрясением увидел, как белый халат и жёлтый кусок трикотажа летят на соседнюю койку, а на мою опускается Глаша, притягивая меня к себе на грудь. Но мне не суждено было овладеть предлагаемым царством...
Мне открылось впервые, во всей своей откровенной наготе, необозримое пространство призывной женской плоти. Увидев эту сияющую и торжествующую белизну, я почувствовал, что лечу куда-то в бездонную пропасть. Мне стало страшно. Но была ещё одна ошеломившая меня неожиданность. В те несколько невыразимо долгих мгновений, когда я смотрел на закрывшую глаза Глашу, на белом, почти ватманской белизны фоне с типографской отчётливостью бросились мне довольно крупные синие буквы. Под глубокой ямкой пупка, в которой таилась загадочная прохладная тень, над розовым, рубчатым, немного похожим на длинный ровный шрам, следом от резинки, теперь, я сказал бы грамотнее и лаконичнее: прямо над лобком... Тянулись обведённые рамкой слова: «Не умеешь, не лезь!».
Сначала, я было подумал, что это она нарочно написала фиолетовыми канцелярскими чернилами, специально для меня, чтобы повеселить, как это иногда делали мы, военной поры мальчишки. Но, уже через несколько мгновений догадался, что это была несмываемая лагерная татуировка...
— И... я не смог!
С болью и сладким ужасом, я почувствовал слишком быстрое непроизвольное облегчение, мгновенное блаженство и глуповатую пустоту внутри, словно бы из меня, как из велосипедной камеры, проколом выпустили воздух... Гадливость к самому себе и инстинктивный стыд появились чуточку позже, когда я, красный и обессиленный, словно после парной бани, неуклюже, ничком, пряча голову в подушку, лежал рядом с Глашей, ощущая всей своей кожей жар её большого тела...
По счастью, она оказалась на редкость деликатной и не стала смеяться надо мной. Гладя меня вдоль спины, она ласково приговаривала: Ничего, миленькой, ничего... По-первости бывает... Ничего... Ищо научишься... Ужо в следующий раз... Потом легко поднялась, потянулась, закинув руки и выгибая спину, всем своим мощным корпусом так, что звонко хрустнули позвонки, схватила с койки свои жёлтые трусы, ещё раз чмокнула меня и исчезла...
Через несколько дней она заступила мне дорогу, когда я вёл свой отряд на линейку, и быстро проговорила: День рожденья у подруги моей Ефросиньи... Приходи после отбоя. Как все стихнут и уснут... Придёшь?
Я растерялся и кивнул головой. — Не забудь, смотри! И она скользнула по моему лицу быстрым ласковым взглядом.
День рождения, ишь ты! Это мне льстило: приглашают, как взрослого. Осложняло дело одно соображение: мне помнилось, что к дню рождения полагалось, что-то дарить. Но что? Особенно в моих условиях? И я нашёл выход, из положения. Я уже упоминал, что довольно сносно рисовал, и не только заголовки стенгазет...
На приличном остатке хорошей бумаги, я нарисовал акварельными красками роскошный букет, из васильков, ромашек и невиданных мною в натуре роз. Эти экзотические, для меня цветы, вроде «Виктории Регии» или баобаба, о которых я тоже читал, я рисовал, по памяти, цепко запечатлевшей их тягучую красоту на какой-то старомодной поздравительной открытке из шкатулки моей бабки...
Вечером того же дня, проскользнув вдоль стены столовой, потный от жары и волнения, в праздничной белой рубашке, я тихо постучал в двери знакомой комнатки... Входите, гости дорогие! Послышался Глашин голос. Не заперто! На большом деревянном топчане у стены, застеленном цветастым одеялом из разнообразных треугольничков, сидела повариха Маша, которую я тоже встречал на кухне, но ни разу с ней не разговаривал. На её узком желтоватом лице не были заметны губы, и она обычно носила не белый, как Глаша, а серый, как мне казалось арестантский халат. На этот раз она была в шуршащем розовом платье с пышными сборчатыми плечиками, вздувавшимися пузырьками. В её лице было что-то новое для меня. «Ага, понял я, для своего праздника она подвела брови и сильно накрасила губы...» Меня удивило, что во рту у неё торчала большая самокрутка, из газетной бумаги. Я-то считал очевидным, что такие вот изделия курят только мужики.
— Валера! Знакомьтесь... Скомандовала Глаша.
— Маша... Хриплым некрасивым голосом сказала женщина, выпустив струю едкого дыма, но взглянув на меня пристальней, поправилась: Мария...
— А по отчеству? Глупо вырвалось у меня. Ей было лет под сорок, и мне она показалась довольно-таки старой женщиной.
— Васильевна... Дёрнув краешком накрашенных губ, ответствовала именинница.
— Поздравляю вас с вашим днём рождения... Довольно воспитанно произнес я, так как не раз читал о подобных ритуалах в книгах, и протянул свой подарок.
— Подарок?! Ой, не могу! Вот уморил! Подарочек... Вдруг закатилась хохотом та, которая назвалась Марией Васильевной, а потом трудно и надолго закашлялась. Торопясь и разливая воду на подбородок и платье, она, ворочая кадыком, напилась из алюминиевого ковша. С присвистом дыша, она рассматривала мой рисунок и, наконец, проговорила:
— Это надо же... Десятку в лагере чалилась, ни разу никто подарочка не преподнёс... На стенку повешу! С каким-то даже вызовом в голосе бросила она и, действительно, встав на топчан, кусочком хлебного мякиша прилепила мой рисунок на голую побеленную стену.
— Красиво... Одобрила Глаша. Неужто ж...сам?
— Сам... С гордостью сказал я. Но меня занимало другое, и я, преодолевая внутреннее смущение, всё же спросил Марью Васильевну: А вы вправду... Десять лет... За что же?
— А ни за хрен! Кратко и выразительно отрезала она, будто сплюнула. Посадили и не вякнули: за задниц и на зону... Да ладно нам, что об этом трепаться-то. Скоро и я в вольняшки выйду! Давайте-ка лучше к столу. И выпьем за именинницу. И я научу вас свободу любить... Вдруг пропела Мария и спрыгнула с одеяла, гулко пристукнув босыми пятками об пол.
Женщины усадили меня на топчан и придвинули стол вплотную. Я оказался зажатым между двумя женщинами так, что лишний раз боялся и вздохнуть, и пошевелиться. Всё пространство маленькой комнатки заливала слепящим светом лампочка, без абажура. На окне, вместо знакомой мне наволочки, сейчас висело глухое серое одеяло. Прямо светомаскировка, как во время войны... А на столе... На столе прежде всего бросался в глаза кирпичик белого хлеба с золотистой корочкой, напластанный щедрыми толстыми ломтями, и большой кусок сливочного масла, блаженствующий в глубокой миске с водой, словно купающийся в озерце... В таких же эмалированных мисках, только поменьше размером, привлекательно пах гуляш с чёрными точечками перцовых горошинок и тёмно-зелёными лавровыми листиками. Вообще-то так называемый гуляш он у нас, в мальчишеском меню, величался «гуляш по коридору», я уже ел вместе, со всеми сегодня на обед, но там на тарелку с сизой перловкой сбоку просто добавлялось несколько кубиков мяса с подливкой, а здесь...
На краю стола круглело решето, для просеивания муки, наполненное отборной крупной черникой. Я знал вчера младшие отряды собирали эту ягоду, которой вокруг была пропасть, часть её сдавалась на лекарственные нужды, а часть должна была преобразовываться в черничный кисель, для всего лагеря. Глядя на крупные блестящие ягоды, чей чёрный цвет так выгодно оттеняла литровая банка, со сметаной, я начал догадываться, почему у наших киселей такой бледный цвет...
Но больше всего привлекала и беспокоила моё внимание литровая бутыль грубого стекла, без всякой этикетки, с подозрительной мутноватой жидкостью, торжественно водружённая в центре стола. Бутылку охраняли три зловещих гранёных стакана, а возле неё на тарелках высилась горка маслянистых пирожков с неведомой пока начинкой и полёживали вяловатые солёные огурцы, нарезанные кружками, на которые я смотрел с полным равнодушием.
— Мутноватая жидкость расплескалась по стаканам...
— Ну, со смешком сказала Глаша, чтоб и в бедующем году, да об эту же пору, с тем же дружком, да ещё с пирожком! И сильно, со звоном чокнулась с нами. Я опасливо посмотрел на свой стакан, налитый почти до половины. — Чего ждёшь? Угрюмо спросила Мария. После третьей-то стакана и прокурор прослезится! Сыпь!
— Я зажмурил глаза, и собрав всю свою решительность, залпом проглотил резко пахнущую жидкость. Это был самогон. Я задохнулся, закашлялся, едкие слёзы непрошено выступили на глазах. Глаша весело замолотила своим весомым кулачком по спине, а Мария Васильевна деловито посунулась большой ложкой к банке со сметаной. Зачерпнув оттуда, она протянула мне полную с верхом ложку: На! 3аешь... Посоветовала она. Сразу полегчает...
Давясь, с трудом протолкнул в горло тугую сметану. Обожжённый самогоном язык ощутил приятную прохладу. В глотке, действительно, сразу стало спокойнее. — Ну, молодец... Засмеялась Глаша. И сейчас молоток, вырастешь кувалдой будешь... Ешь теперь.
— А ты и верно, ничего... Согласилась Мария Васильевна, и не глядя на меня певуче добавила: С таким бы хлопцем, я и поласкаться не прочь...
— Я воспринял это как своеобразный комплимент, польщено рассмеялся и потянулся, за пирожком. Он оказался моим любимым с капустой и луком.
— Давай... по второй, торопила Мария Васильевна. У нас ведь между первой и второй не дышат... И правильно... Подтвердила Глаша и протянула руку к бутылке, нарочно, как мне показалось, сильно прижимая меня грудью. Она опять налила мне полстакана. Я попытался было слабо протестовать, но она легко отвела мою руку. Однако, на этом мои испытания только начались...
— Ох, и жарко ноне! Опять почти пропела Мария Васильевна и стянула своё платье, через голову. На ней был чёрный лифчик и чёрные же короткие трусы. Искупаться бы, а? Да и ты бы, Валерочка, рубашку-то снял, а то вон я ненароком помадой испачкаю...
Соображение показалось мне разумным, я представил себя и её в этом наряде на светлом песчаном берегу нашей лесной речки и несколько успокоился. Но когда мой взгляд, до того всё же более целеустремленный на стол, упал на её ноги, я вздрогнул.
Дело было не в том, что её тело было совсем другим, нежели у Глаши, худощавым, коричневым, а ноги в пупырышках напоминали своей худобой ноги большой курицы... На обеих её ляжках была татуировка, но какая! На одной, синяя стрела вверх и надпись: «Умру за горячую... любовь!». Вообще-то надпись была более грубой и нецензурной, а на другой ноге нарисована была такая реалистическая, и с моей точки зрения бесстыдная картинка, что мне стало даже тошно и нехорошо.
Вдобавок, её обнажённое плечо с крупной оспенной отметиной обжигало меня с одной стороны, а я никак не мог отодвинуться, в противном случае я бы упал прямо на Глашу...
А у Глаши перед тем, как снова выпить, возникла новая приговорка: Чтоб лучше спалось, да утром не забывалось...Ты, Валера, не бойся, добавила она. Отбой был, теперь тебя до утра никто не хватится. Ну? До конца, до конца! И она проследила за тем, чтобы мой стакан опустел...
До, этого вечера, я никогда не пил. Ничего, ни разу. Окосел, я почти мгновенно. Эффект опьянения был неожиданным, я стал горячим, радостным и лёгким. И вдобавок, меня охватила такая слабость, что я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой... Я только понимал, что мне хорошо так, как никогда не было хорошо в моей коротенькой, с воробьиный клюв, жизни. И я ничуть не удивился тому, что голая Глаша каким-то образом очутилась вдруг посредине комнаты, стала притопывать и не очень громко петь:
— Эх, дует ветер-ветерок, — Вся берёзка клонится. — Парень девушку дерёт, — Хочет познакомиться...
Я словно бы сквозь сон почувствовал, что меня опрокинули на спину, торопливые и опытные женские руки поворачивали и раздевали меня. Узкие длинные груди острыми треугольниками хищно тянулись к моему лицу, и от этого незнакомого мне тела исходил терпкий звериный запах...
Не в силах сопротивляться, я слышал, тем не менее, как на мне, словно на послушном инструменте, начали играть в четыре руки... Лицо мне закрыло что-то тёплое и душное, и это тяжёлое что-то я никак не мог сбросить, задыхался и отталкивал его языком и губами...
— Да ты пососи, пососи грудь-то... Cлышал я над собой шёпот. Не бойся баба сиськой в гудок не влезет...
Опьянение, от самогона и непривычного запаха кружило голову, и я не мог бы сказать, которое было сильнее. Меня била дрожь, каждое прикосновение пальцев отзывалось во мне, словно бы покалыванием, как от заметных ударов электрического тока. Лампочка погасла, но я бы не удивился, если бы в темноте, от меня проскальзывали бы искры...
Чувство всепоглощающего желания было долгим, непереносимо долгим, оно перехватывало бёдра, живот, горло, мне было по-настоящему больно: потом я догадался, что мой возбужденный стоячий член был безжалостно, у самого корня, перетянут резинкой...
С обморочным замиранием я бессильно ощущал, как внизу живота мою восставшую тугую плоть властно вторгают в иную плоть, влекущую своей вечной тайной...
— Я застонал от боли, стыда, счастья и наслаждения. Всем своим существом я физически чувствовал, как под грубыми прикосновениями с меня, словно с крыльев пойманной бабочки, осыпается юношеская пыльца...
— Да хватит тебе, хватит. Окстись, ненасытная... Уморишь парня-то. Дай-кось теперь я... И вслед за этими словами кровь отхлынула от головы, последовала почти полная потеря сознания, затем сладкая, быстро нарастающая истома и освобождение, неслыханное великое освобождение, исторгшее у меня нечаянный и бессвязный вопль восторга, словно бы весенний ручей, долго сдерживаемый ледяной плотиной, наконец-то прорвался наружу!
— Всё это и прорвалось неистовыми слезами... Я плакал, не стесняясь своих слёз, лежа на спине, под цветастым Лоскутовым одеялом. Я плакал, а слёзы мне слизывала Глаша, потому что я не владел своими руками: одну руку так крепко зажимала между своих ног Мария Васильевна, что я не мог её выдернуть, а второй рукой я невольно обнимал Глашу...
— Потом, я провалился окончательно в тёмную, беззвучную и беззвёздную ночь...
— На рассвете Глаша растолкала меня с превеликим трудом. Эй, пионер-вожатый! Сказала она. На физзарядку опоздаешь. Да и мне надо печь затапливать...
Когда я разлепил тяжёлые веки и не сразу сфокусировал взгляд на окружающем, я увидел, что она стоит передо мной совершенно голая. Марии Васильевны в комнате не было.
Во рту нехорошо... Горько. Пожаловался я.
— На вот огурец, зажуй... Посоветовала Глаша и присела на край кровати. Я уже не делал никаких попыток прикрыться.
— Ишь ты... Мужичок... Не то с одобрением, не то с осуждением, и вместе с тем с какой-то грациозной ленцой протянула Глаша, а потом почти в ухо зашептала частушку:
— Эх, всё бы пела, всё бы пела, — Всё бы веселилася! — Всё бы под низом лежала, — Всё бы шевелилася!
Затем её белая грудь и розовое лицо стали неотвратимо приближаться ко мне, и Глаша обняла меня: А ты это... Ещё побаловаться со мной не хочешь? Время есть...
Иногда, вспоминая этот наиболее сильный эпизод моего далёкого отрочества, я спрашиваю себя: а была ли у меня первая любовь? Может быть, потом, позднее всё началось сразу с третьей?!
82112 48 338 Оставьте свой комментарийЗарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора ЗООСЕКС
Перевод, Животные, Фантастика, Рассказы с фото Читать далее... 177 20 10 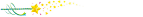
Перевод, Животные, Зрелый возраст, Рассказы с фото Читать далее... 492 30 10 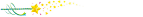 |
|
© 1997 - 2026 bestweapon.one
Страница сгенерирована за 0.009314 секунд
|

|