




|


 |
|
|
|
СЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ. РОЗГИ И НОГИ Автор:
svig22
Дата:
16 декабря 2025

Конец октября в брянской глубинке. За окном ранние сумерки, в печке потрескивают последние поленья. В доме Варвары Алексеевны, учительницы русского языка, стоящем на отшибе у школьного огорода, царила тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц и скрипом пера. Хозяйка, в старом, но аккуратно заштопанном свитере, сидела за столом под абажуром «полусферой», погруженная в ворох тетрадей в косую линейку. Завтра — воскресенье, но в сельском клубе будет собрание, а к понедельнику все работы должны быть проверены. Она исповедовала принцип строгости, как и большинство в деревне Заречье: жизнь здесь была не сахар, и баловать детей считалось грехом. На стареньком диване, застеленном домотканым покрывалом, лежал ее воспитанник — Сергей. Приемная мать считала, что он спит. Сережа не спал. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, пахнущую полевыми травами, и мысленно проживал грядущую субботу, час за часом. Вчера, на перемене между уроками истории СССР и математики, он, сам не понимая зачем, довел до слез Анютку Белову. Дразнил ее «шпалой» за высокий рост и «графиней» за не по-деревенски тонкие, будто отлитые из фарфора, пальцы. Она молчала, только губы дрожали, пока ее подружка, бойкая Маринка, не крикнула: «Да что ж ты терпишь-то!» И тогда у Анютки потекли слезы — тихие, обильные, от которых стало мучительно стыдно. Она сама ни на кого не жаловалась, но Маринка мигом сбегала в учительскую. Итог был закономерен: вечером Сережа час стоял на коленях на рассыпанном горохе в углу, слушая строгий, обстоятельный монолог Варвары Алексеевны о благородстве, чести и уважении к девушке. А затем был вынесен приговор: «В субботу, после уроков. Розгами. Пятьдесят ударов. И пусть Анюта послушает, как ты будешь вопить. Чтобы неповадно было». Это «послушает» сводило его с ума всю неделю. Мысль, что его, почти голого, будут сечь на глазах у Анютки, обжигала сильнее любой розги. Он машинально выполнял все дела: колол дрова у поленницы, носил воду из колонки, сгребал последние листья в огороде. Даже уроки учил прилежнее обычного — Варвара Алексеевна была к нему строже, чем к другим, и лишний повод для «добавки» ему был не нужен. В кладовке, рядом с банками с солеными огурцами и бочонком с квашеной капустой, стояла знакомая кадка, где в рассоле из озерной воды вымачивались гибкие ивовые прутья. И в углу комнаты ждала своего часа та самая широкая лавка из темного дуба, к которой Сережа прошлой осенью, под чутким руководством тети Вари, прикрутил четыре кожаных ремешка с тугими пряжками. Мысли о субботе не отпускали. В школе он украдкой поглядывал на Анюту, сидевшую через два ряда. Она была непохожа на других девчонок: не бегала сломя голову на футбольное поле, выстланное утоптанным дерном, а на переменах часто читала книжки из сельской библиотеки. Руки у нее были длинные и тонкие, а коса — не грубая рыжая веревка, как у многих, а мягкая, цвета спелой ржи. Мысль о ее присутствии при экзекуции была невыносима. И тут же другая, горькая и справедливая: «Сам виноват. Обидел такую... Так тебе и надо, дураку. Получи по заслугам». Суббота наступила неумолимо. Последний урок — трудовое обучение, где мальчишки сколачивали кормушки для птиц, — пролетел как мгновение. Дети, натягивая телогрейки и кирзовые сапоги, с шумом разбегались по домам. Сергей всегда шел домой вместе с Варварой Алексеевной, их дом был тут же, в школьной усадьбе. Но сегодня он медлил, будто надеясь, что время можно остановить. Они вышли последними. Он нес ее потрепанный портфель, набитый тетрадями, и смотрел под ноги на раскисшую колею дороги. Спросить, позвала ли она Анюту, язык не поворачивался. В избе пахло щами из кислой капусты и сушеными яблоками. После ужина Варвара Алексеевна, как всегда, велела ему вымыться в тазу у печки. «Ну, Сереженька, тело теперь чистое, пора и душу очистить», — сказала она спокойно, даже мягко. И в этот миг раздался робкий стук в сенях. На пороге, в скромном пальтишке и вязаной шапочке, стояла Анюта. — Вот и умница, вовремя. Ты знаешь, зачем я тебя позвала? — спросила учительница. — Н-нет, Варвара Алексеевна, — прошептала девочка, опуская глаза. — Этот озорник обидел тебя. Сейчас он получит по заслугам. Мужчина не должен позволять себе такого с женщиной. Ты будешь наблюдать из соседней комнаты. Ему будет стыдно, и тебе будет назидание. Садись. — Может, не надо... так строго... — еле слышно вымолвила Анюта. — Как же не надо? — голос учительницы зазвенел сталью. — Оставить такое без последствий? Нельзя. Он должен прочувствовать свой позор. Сергей, стоя в горнице, слышал каждый слово. Стыд залил его горячей волной, уши горели, как в огне. Варвара Алексеевна вернулась, подчеркнуто оставив дверь в смежную комнату-заулку открытой. Там не горел свет, но тонкая ситцевая занавеска, висевшая в проеме, не скрывала почти ничего от яркого света керосиновой лампы «молния» на столе. Начался ритуал. Сергей, привычными движениями, под спокойным взглядом воспитательницы, снял поношенную рубашку, фланелевую нижнюю сорочку, штаны на подтяжках и наконец трусики, аккуратно сложив все на табурет. Потом, совершенно голый, дрожа от холода и унижения, подошел к кадке. Его душа металась: выбрать прутья потоньше? Но тогда Варвара Алексеевна сочтет это хитростью. Выбрать длинные, гибкие, с страшным свистом? Так будет невыносимо больно, но... он ведь действительно виноват перед Аней. Сжав зубы, он отобрал два десятка самых ровных, хлестких лозин, связал их в два тугих пучка и, опустившись на колени, поднес учительнице. — Пожалуйста... выпорите меня... — выдавил он шепотом. — Громче, Сережа. Я не расслышала. Он взглянул в сторону занавески, за которой, он знал, сидела она, и, глотая комок в горле, сказал громко и отчетливо: — Варвара Алексеевна! Прошу вас, высеките меня розгами как следует! Пучок был принят. Легкое, щекочущее касание прутьев по голой коже указало ему путь к лавке. Он взобрался на нее и лег, уткнувшись лицом в прохладное дерево, пахнущее давним лаком и пылью. Ремни плотно охватили его запястья и лодыжки. Он стиснул зубы, дав себе зарок молчать. Первый удар обжег кожу, как удар током. Второй — заставил всхлипнуть. Третий, меткий, пришедшийся в самую чувствительную ложбинку между ягодиц, вырвал оглушительный, вопль: «Ой-ой-ой! Больно!» Все его благие намерения разлетелись в прах. Розги, направляемые сильной и опытной рукой, ложились ровными жгучими полосами, сливавшимися в один сплошной ковер боли. Он кричал, плакал, извивался, бессвязно молил о пощаде, забыв обо всем на свете. Он не видел, но чувствовал, как на его теле вздувались багровые рубцы, а в местах пересечений проступили крохотные капельки крови. Когда все закончилось, он, всхлипывая, натянул штаны на воспаленную кожу и, по велению тети Вари, опустился перед ней на колени, благодаря за науку. Потом дрожащими губами поцеловал руку учительницы и, склонившись, отложенные в сторону розги. — Анюта, зайди сюда, — позвала учительница. Девочка вошла, бледная, с огромными глазами. Сергей не смел поднять голову. — Подойди ближе. А ты, Сережа, проси у нее прощения. — Прости меня, Аня... — прохрипел он. — В ноги кланяйся. Покажи, где твое место. Сергей, превозмогая жгучую боль в теле, склонил голову к босым ногам девочки. — Ну, Анютка, прощаешь обидчика? — П-прощаю... — Тогда поставь ногу ему на голову. Пусть запомнит раз и навсегда. Мягкая стопа девочки легла на его затылок. Мир сузился до этого касания. — Благодари. Ногу поцелуй. И Сергей, повинуясь, поцеловал ногу девицы около немного грязных пальцев. И тут, сквозь боль, унижение и смущение, его накрыло странное, ослепительное чувство. Не просто облегчение от того, что все позади. Нет. Это была щемящая, горькая радость. Он принял свою кару здесь, перед ней. Он был наказан ею, даже если это была лишь ее нога. И в этом было что-то бесконечно правильное и... прекрасное. Он украдкой взглянул на ее лицо, увидел не злорадство, а смятение и даже жалость в ее глазах, и его сердце екнуло. Анюту отпустили домой. Наказание для Сергея продолжилось — он должен был простоять на коленях на горохе еще час. Но боль в теле как будто отступила на второй план. В ушах звенела тишина, а в душе бушевало открытие, от которого перехватывало дыхание. Он думал о ее ноге на своей голове, о ее смущенном лице. Он, выпоротый и униженный, чувствовал себя не несчастным, а... очищенным. И понял, что это странное, новое чувство, вспыхнувшее так ярко именно в этот момент, — и есть та самая, о которой говорят в книжках, любовь. Он любит ее. Ту самую, тонкую, нездешнюю Анюту. И если его место — где-то рядом с ней, даже «под ногой», то это не страшно. Это даже... правильно. Он готов был стоять так еще долго, греясь этим новым, обжигающим знанием. *** С этого дня жизнь Сергея обрела новый, скрытый от всех смысл. Жгучий стыд и боль от экзекуции постепенно притупились, сменившись тихим, навязчивым горением. Он ловил себя на том, что в классе его взгляд сам собой находит Анюту — неловкую, застенчивую, с её тонкой шеей и ясным взглядом. Теперь, когда он нёс её портфель (тяжёлый от книг и тетрадей), он чувствовал не унижение, а странную гордость. Деревянный ранец с вытертыми уголками пах её домом — дымком, травами и чем-то молочным. Носить его было привилегией. Его услужливость не была показной. Он не лебезил и не говорил лишних слов. Он просто делал. Увидев, как она пробирается по раскисшей октябрьской грязи, обуваясь в холодных сенях школы, он на следующее утро пришёл на час раньше, отыскал старое корыто, натаскал ведром воды и ждал её у крыльца. Когда она появилась, с удивлением глядя на приготовления, он просто сказал: «Давай сапоги». И, опустившись на колени на скрипучую ступеньку, грубой щёткой снял с её кирзовых сапог всю липкую, чёрную грязь. Он делал это тщательно, молча, как важную работу. Анюта стояла, покраснев, не зная, куда деть руки, а потом прошептала: «Спасибо, Серёж...» Это «Серёж», а не «Сергей», отозвалось в нём тёплой волной. Узнав, что живут они с Анютой вдвоём со старенькой бабушкой, а мать её, Марфа Семёновна, после тяжёлой зимы так и не оправилась и лежит с больным сердцем, он сам напросился к ним помогать. Варвара Алексеевна, наблюдая за его рвением, кивнула: «Искупать вину трудом — дело благое. Только не забрасывай учёбу». И он не забрасывал. Он жил в новом, строгом ритме: школа, дрова для тёти Вари, потом — к Беловым. В их доме, низком, почерневшем от времени, но удивительно уютном, пахло лекарственными травами и печным теплом. Он колол и складывал в поленницу сырые, тяжёлые чурбаки, носил воду из колодца, выгребал золу. Бабушка Агафья, маленькая, вся в морщинках, сначала смотрела на него с подозрением, но, видя, как ловко он управляется с тяжёлым корытом для свиней и аккуратно насыпает зерно курам, стала приберегать для него краюху свежего деревенского хлеба. Мать Анюты, бледная женщина с добрыми усталыми глазами, из-за занавески тихо благодарила: «Спасибо тебе... Облегчил ты нам жизнь». Но главным была, конечно, Анюта. Он старался попадаться ей на глаза, но не докучать. Помогал снести тяжёлое ведро, поправить сползающую с плетня ветку шиповника. И вот однажды, когда он, вспотевший, заканчивал пилить последнее полено, она вышла к нему на крыльцо, завернувшись в большой шерстяной платок. — Серёжа... — начала она нерешительно. — Я не знаю, как тебя отблагодарить. Ты столько делаешь для нас. Бабушка говорит, надо хоть чем-то... Он опустил пилу, выпрямился. Мысль, которая жила в нём все эти дни, тихая и настойчивая, как биение собственного сердца, вдруг вырвалась наружу, прежде чем он успел её обдумать. Он не смотрел на неё, уставившись на её валенки, из которых торчали худые коленки. — Разреши... снова поцеловать тебе ногу. Воцарилась тишина. Слышно было, как хрипло каркает ворона на облетевшей рябине. Сергей зажмурился, ожидая насмешки или окрика. — Разве тебе... понравилось? — её голос прозвучал не с осуждением, а с искренним, жгучим любопытством. Он собрал всё своё мужество, поднял на неё глаза и честно, как на исповеди, выдохнул: — Очень. Анюта смотрела на него долго, будто пытаясь разгадать сложную загадку. Потом тихо, почти беззвучно, сказала: — Странно. Ну... хорошо. Целуй. Она присела на ступеньку, стряхнула с одного валенка снежную крупу и, поколебавшись, вытащила оттуда босую ногу. Она была бледной, почти прозрачной, с тонкими пальцами и аккуратными, чуть загрубевшими пятками. На подошве прилипли мелкие тёмные соринки с пола. — Ой, она же грязная... — смущённо заметила она и потянулась, чтобы надеть валенок обратно. — Это ничего! — вдруг страстно перебил он. — Это даже... хорошо. Он не мог объяснить почему. Не чистота, домашний уют её босой ноги, не предназначенной для посторонних глаз, были ему особенно дороги. Он опустился перед ней на колени на холодное, утоптанное земляное крыльцо. Мягко взял её ступню в руку — она была холодной и лёгкой, как птица. Наклонился и губами, тёплыми и чуть шершавыми, прикоснулся к нежной, пыльной коже подошвы, чуть ниже основания пальцев. Чмокнул. Закрыл глаза, погружаясь в этот миг. Запах домашней пыли, кожи, немножко потного тела смешался с горечью его собственного раскаяния и сладостью разрешения. Он чувствовал, как мелко задрожали её пальцы. Потом он поднял голову. Глаза его горели. — А хочешь... я тебе ноги сегодня помою? — спросил он, и голос его звучал хрипло от напряжения. Анюта смотрела на него широко раскрытыми глазами. Смущение, недоумение, а потом какая-то догадка мелькнули в них. И вдруг она рассмеялась — не злорадно, а светло, с облегчением, как будто нашла неожиданный ответ. — А давай! — согласилась она с внезапной бойкостью. — Я терпеть не могу сама себе ноги мыть, всегда мёрзну, и вода расплёскивается! Этим же вечером, перед тем как уходить домой к тёте Варе, он выполнил своё обещание. В сенях, у печки, поставили старый жестяной таз. Анюта сидела на табурете, задрав подол ситцевого платья. Сергей, сосредоточенный и важный, как жрец, совершающий обряд, аккуратно поливал её ноги тёплой водой из ковшика, натирал их куском серого хозяйственного мыла, смывал пену, а потом вытирал до розового состояния старым, мягким полотенцем с вытертым узором. Он делал это медленно, тщательно, не пропуская ни межпальцевого промежутка, ни пятки. Из горницы, где на лежанке грелась бабушка Агафья, а у печки в плетёном кресле сидела, укрытая пледом, мать Марфа, доносился тихий, размеренный разговор. Но Сергей чувствовал на себе их взгляды — не осуждающие, а какие-то глубокие, понимающие. Бабушка что-то тихо сказала дочери, и та в ответ вздохнула: «Чудны дела твои, Господи... Но сердце-то у парня доброе». Анюта сидела, опустив глаза на его склонённую голову, на тёмные, вьющиеся волосы на его затылке. И на её лице уже не было ни страха, ни брезгливости. Была задумчивая, сосредоточенная нежность. Когда он закончил, поднял голову и встретился с её взглядом, она улыбнулась ему — впервые за всё время — лёгкой, робкой, но настоящей улыбкой. — Спасибо, Серёж, — сказала она. — Теперь они такие чистенькие. Он шёл домой в ранних зимних сумерках, и мир вокруг казался ему преображённым. Лёгкий морозец щипал щёки, но внутри горел жаркий, ясный огонь. Ночью он притих на постели и трогал себя там. А утром проснулся с мокрыми трусами. *** Новые чувства, распирающие грудь, были слишком яркими, чтобы остаться незамеченными. Варвара Алексеевна, с её учительской проницательностью и деревенской прямотой, видела перемены в приёмном сыне. Видела, как тот поглядывает в сторону Беловых, как возвращается домой с каким-то внутренним сиянием, несмотря на усталость. Видела и задумчивость, и лёгкую рассеянность, и тот особый блеск в глазах, который бывает у мальчишек, когда в них просыпается нечто большее, чем просто дружба. Но когда однажды утром она, зайдя в его комнату, чтобы разбудить к школе, обнаружила мокрые трусы, аккуратно спрятанные под матрасом, всё стало на свои места. Обыденный факт взросления для деревенской женщины, знающей жизнь без прикрас. Однако в её строгой системе воспитания это было не просто «происшествие». Это был сигнал, тревожный и ясный. Разговоры о половых отношениях в их краях не велись — считалось постыдным. Но допустить, чтобы мальчик, живущий под её крышей, «опускался до рукоблудия» и тем паче связывал эти греховные мысли с конкретной девочкой, которую она сама же поставила ему в пример и перед которой он был унижен, — это было уже прямым нарушением порядка. Она решила действовать без промедления. Не скандалом, не криком — она презирала истерики. А по-своему, методично и основательно, как всё делала в жизни. В субботу, после того как Сергей вернулся от Беловых, и каким-то особенно просветлённый, она позвала его в горницу. «Сережа, садись. Надо поговорить». Голос её был спокоен, но в нём звенела та самая сталь, от которой у Сергея ёкнуло сердце. Он сел на краешек стула, предчувствуя недоброе. «Я вижу, как ты к Анне тянешься. Вижу, как стараешься. Искупление вины трудом — дело хорошее». Она сделала паузу, её взгляд стал тяжёлым, пронзительным. «Но я вижу и другое. Вижу, что у тебя в голове завелись не те мысли. Скверные, пошлые мысли». Сергей побледнел. Ему показалось, что она прочитала все его сокровенные мечтания, всю ту странную, жгучую нежность, что смешалась со стыдом и благоговением. «Парню твоего возраста естественно, — продолжала она, не отводя глаз, — но естественно и бороться с этим. Думать о девушке с вожделением — грех. Осквернение. Особенно о такой, как Анна. Ты, выпоротый перед ней, стоявший на коленях, смеешь в мыслях...» Она не договорила, но её сжатые губы сказали всё. «Это подлость. И это болезнь души. Рукоблудие опустошает, делает человека слабым, рабом своей плоти. Ты хочешь быть рабом?» «Н-нет, тётя Варя», — выдавил он. «Значит, надо выжечь эту дурь. Очистить. Как я выжигала из тебя злобу и насмешки розгами, так выжгу и эту пакость. Сейчас. Пойди, принеси розги. Самые крепкие. И приготовь лавку». У Сергея подкосились ноги. Мысль о новой порке, такой близкой после предыдущей, вселяла ужас. Но вместе со страхом пришло и странное смирение. Она была права. Его мысли об Анюте, особенно ночные, были осквернением того чистого, святого чувства, что он испытывал днём. Он заслуживал наказания. Он должен быть очищен. Молча, с опущенной головой, он направился в кладовку. На сей раз он не выбирал, не колебался. Взял первую охапку толстых, жёстких, как проволока, прутьев, уже хорошо вымоченных. Связал их туго, в один увесистый пучок. Потом вернулся в горницу и стал, не дожидаясь приказа, раздеваться. Рубаха, штаны, нижнее бельё — всё аккуратно сложено на табурет. Он стоял голый, дрожа не столько от холода, сколько от внутреннего трепета, перед своей строгой воспитательницей. «Ложись». Он взобрался на знакомую тёмную лавку, лёг лицом в прохладное дерево. Кожа на ягодицах, почти зажившая после прошлой порки, болезненно похолодела. Ремни снова охватили запястья и лодыжки, приковав его к месту искупления. Варвара Алексеевна подошла, взвесила в руке тяжёлый пучок розог. Её лицо было сосредоточено, как лицо хирурга перед сложной операцией. «Помни, Сережа. Тело твоё — храм. И мысли твои должны быть чисты. Девушка — не предмет для грязных фантазий. Она — честь и совесть. Особенно Анна. Ты перед ней в долгу, а не в праве желать её. Эти мысли — измена тому раскаянию, что ты испытывал. Их надо высечь. Высечь дотла». Первый удар обрушился с страшной силой. Не жгучий, как раньше, а тяжёлый, глухой, рвущий плоть. Сергей вскрикнул, впиваясь лицом в дерево. Второй, третий — они ложились методично, с одинаковыми промежутками, но каждый казался больнее предыдущего. Боль была иной — не поверхностно-жгучей, а глубокой, костной, унизительной. Она входила внутрь, в самую суть его смущения и стыда. «За каждую пошлую мысль! За каждое ночное осквернение!» — звучал над ним ровный, негромкий голос Варвары Алексеевны, сопровождаемый свистом розог и глухими шлепками по телу. «Ты должен гнать их! Как скверных псов! Думай о её доброте, о её чистоте! А не о том, что тебе запретно!» Розги впивались в уже вздувающуюся кожу, пересекая старые, едва зажившие рубцы. Сквозь туман боли Сергей слышал её слова и соглашался с ними. Да, он был подл. Да, он осквернял своим вожделением тот светлый образ. Он заслужил каждое попадание, каждый жгучий рубец. Он кричал, но не молил о пощаде — молил о прощении. Слёзы текли по его лицу, смешиваясь с потом и слюной на досках лавки. «Воспитывай в себе мужчину! Силу воли! Воздержание! — продолжала наставлять его Варвара Алексеевна, не ослабляя ударов. — Любовь — это не плотская дрянь! Это ответственность! Это готовность служить и защищать! Вот что ты должен чувствовать к Анне! А не то, что у тебя в подвальном мозгу завелось!» Порка длилась долго. Казалось, она никогда не кончится. Когда последний удар отзвучал, Сергей лежал, обездвиженный болью, всхлипывая тихо, по-детски. Его ягодицы представляли собой сплошной багровый ковёр, местами проступила сукровица. Варвара Алексеевна отложила розги, тяжело дыша. Потом развязала ремни. «Встань. Одевайся. И на горох. На час. Думай о том, что я сказала». Он, шатаясь, слез с лавки, с трудом натянул штаны на истерзанную кожу — ткань прилипла к ранам, заставляя его снова скулить от боли. Потом опустился на колени в угол, на рассыпанный жёсткий горох. Острая боль в коленях смешалась с пульсирующим пожаром на заду. И он думал. Сквозь боль, через слёзы и унижение. Он думал об Анюте. Но теперь — совсем по-другому. Он представлял не её босые ноги, а её ясные, доверчивые глаза. Не её тело, а её тихую улыбку. Варвара Алексеевна была права. То, что он чувствовал ночью, было осквернением этого. Анна была не объектом желания, а... повелительницей. Да. Именно так. Существом высшего порядка, перед которым он, грешный и слабый, должен стоять на коленях, служить и оберегать её чистоту даже от своих собственных мыслей. «Я буду думать о тебе только так, — шептал он про себя, стискивая зубы от боли в коленях и на теле. — Ты — моя госпожа. А я — твой слуга. Тот, кто охраняет твой покой. Даже от самого себя». И в этой мысли, горькой и строгой, было странное облегчение. Это была не кастрация чувства, а его возведение на новый, высший уровень. Любовь как дисциплина. Любовь как служение. Любовь как искупление. Он терпел эту боль ради неё. Чтобы стать лучше. Чтобы быть достойным хоть какого-то места возле неё. Когда час истёк, и Варвара Алексеевна разрешила ему встать, он поднялся, превозмогая одеревенение в ногах и жгучую пульсацию спины. «Понял?» — коротко спросила она. «Понял, тётя Варя. Спасибо». «Иди, умойся. И с завтрашнего дня — никаких поблажек. Учёба, работа, помощь Беловым. Но с чистыми мыслями». Он кивнул и вышел. Идя по темному двору к колодцу, он чувствовал каждое движение разорванной кожи под одеждой. Но в душе был странный, холодный покой. Он определил своё место. Он знал правила игры. И в этой определённости была своя, суровая свобода. Анна оставалась его солнцем. Но отныне он смотрел на это солнце не как голодный путник, а как верный страж, стоящий на посту. И эта новая, выстраданная роль казалась ему единственно правильной и прекрасной. *** Тихий ритуал мытья ног стал для Анюты неожиданным открытием. Сначала было лишь смущение и неловкость, когда Сергей опускался перед ней на колени. Но уже во второй раз, когда он с той же сосредоточенной важностью поставил жестяной таз и принес ковшик теплой воды, в ней что-то дрогнуло. Ей нравилось. Нравилось, как он бережно снимал с неё валенки и шерстяные носки, грубыми от работы руками, но с невероятной осторожностью касаясь её щиколоток. Нравилось, как его темная, склоненная голова была ниже её колен — зрелище, от которого в груди разливалось странное, тёплое и властное чувство. Она не могла это назвать, не понимала, почему это приятно. Просто было так. Но в третий раз, когда он, как всегда тщательно намылив её ступни серым куском мыла, принялся массировать пятки, а потом провёл намыленными пальцами по подъёму стопы к лодыжке, она вздрогнула. Не от боли или щекотки. Внизу живота, глубоко внутри, что-то ёкнуло, зашевелилось, засвербело. Тепло от воды разливалось по ногам, но это тепло было каким-то другим, оно стремилось вверх, к самому сокровенному месту. Ей дико захотелось почесаться там, между ног, чтобы унять это назойливое, тревожное и приятное одновременно щекотание. Она сжала колени, покраснела и отвела взгляд в сторону, боясь, что он что-то заметит по её лицу. Когда он закончил, вытер её ноги до розового сияния старым полотенцем и поднял на неё глаза, в его взгляде она увидела ту же преданность, тот же немой вопрос. И она, не отдавая себе отчёта, почему, выпалила: — Серёж... а ты будешь мне мыть ноги каждый день? После того как закончишь работу? Чтобы... чтобы они всегда были чистые. Она сказала это, не как просьбу, а почти как мягкое приказание, и сама удивилась своей смелости. Сергей замер на мгновение, потом кивнул, и в его глазах вспыхнула та самая странная, обжигающая радость, смешанная с мукой. — Буду, Аня. Конечно, буду. Это... это моя обязанность. С этого дня ритуал стал ежевечерним, неотъемлемой частью их жизни. Сергей приходил после всех дел, мрачный, уставший, но как только он переступал порог их избы и видел приготовленный таз и сидящую на табурете Анюту, в нём что-то преображалось. Он будто бы входил в особое, священное пространство, где существовали только её ноги и его служение. Но для него это было пыткой высшей степени. Разрешение, данное ею, было одновременно и блаженством, и адом. Опускаясь перед ней на колени, принимая в свои руки её холодную, бледную ступню, он чувствовал, как кровь бросается в голову и одновременно стынет в жилах. Вожделение, которое Варвара Алексеевна пыталась высечь из него розгами, не исчезло. Оно клокотало внутри, усиленное близостью, запретностью и невероятной нежностью самого действия. Каждое прикосновение к её коже, каждый изгиб её стопы, вид её тонких щиколоток под подолом платья — всё это сводило его с ума. Он делал свою работу с предельной тщательностью, стараясь думать только о чистоте, о службе, о её комфорте. Но его тело не слушалось. Оно реагировало по-своему, смущая и унижая его, напоминая о греховной природе, которую, казалось, так и не искоренили. Однажды вечером, когда он особенно долго и медленно массировал ей подошву мыльной пеной, Анюту пробила мелкая дрожь. Она подавила тихий вздох и непроизвольно чуть раздвинула колени, как бы ища прохлады, облегчения от того настойчивого, тёплого свербения, что разгоралось внутри с новой силой. Этот едва заметный жест, этот намёк на сокровенное, был для Сергея как удар током. Он резко замер, пальцы его сжались на её ноге. В тазу хлюпнула вода. Он поднял на неё взгляд — растерянный, полный немой мольбы и стыда. Анюта встретила его взгляд. Она видела его мучение, видела, как горит его лицо, как дрожат руки. И в этот момент до неё, сквозь туман собственных непонятных ощущений, дошло нечто. Она поняла, что происходит. Поняла, какая сила заставляет этого сильного, уже почти взрослого парня так трепетно служить ей, с такой болью и восторгом в глазах. И это знание не испугало её. Оно наполнило её новой, ошеломляющей силой. Чувство власти, уже знакомое, теперь окрасилось в новые, глубокие и опасные тона. Она не отняла ногу. Наоборот, она вытянула её чуть вперёд, позволив ему лучше удерживать её в ладонях. И тихо, так тихо, что он скорее угадал по движению губ, спросила: — Тебе... тяжело, Серёж? Он не смог солгать. Он лишь опустил голову, в немом признании, и губы его дрогнули. Это было и «да», и «нет». Да — потому что это невыносимо. Нет — потому что это всё, чего он хочет. Анюта медленно вынула ногу из его рук, поставила её обратно в теплую воду. Потом, после паузы, которая показалась ему вечностью, сказала тем же тихим, но теперь твёрдым голосом: — Всё равно мой. До конца. Как должно. Это твоя обязанность. И он продолжил. Стиснув зубы, подавляя дрожь в руках, сжигаемый изнутри и снаружи. Он мыл, споласкивал, вытирал. Он совершал свой обряд, понимая, что для неё он теперь не просто помощник или кающийся грешник. Он был чем-то большим и в то же время — чем-то бесконечно подчинённым. И в этой двойственности, мучительной и сладкой, рождалась новая, ещё более сложная и глубокая связь между ними. Связь, в которой её пробуждающаяся власть и его покорное вожделение сплетались в один тугой, неразрывный узел. *** Ежевечерний ритуал проходил как обычно. В горнице, за ситцевой занавеской, на лежанке сидела бабушка Агафья. Мать Анюты, Марфа Семёновна, как всегда, сидела у печки в своём плетёном кресле, укрытая стареньким, но тёплым пледом. Она тихо наблюдала за сценой в сенцах: за тем, как её дочь, смущённо улыбаясь, подставляет босые ноги под заботливые руки Сергея, а тот, с лицом, полным сосредоточенного благоговения, совершает свой обряд. Тишину нарушало только плесканье воды, скрип табуретки да тихий вздох Анюты, когда пальцы Сергея проходились по особенно чувствительной пятке. Марфа Семёновна смотрела на это с лёгкой улыбкой и глубокой, материнской грустью. Она видела, что происходит между детьми — эту странную, напряжённую нежность, полную невысказанного. И её сердце, измученное болезнью, но не утратившее мудрости, тревожилось и умилялось одновременно. В тот вечер, когда Сергей уже заканчивал вытирать Анютины ноги до розового сияния, мать не выдержала. Её тихий, слабый голос прозвучал из полумрака горницы, лёгкой, почти шутливой ноткой, чтобы снять напряжение: — Эх, детки, детки... Была у нас в старину такая присказка, — сказала она, и в голосе её слышалось что-то далёкое, из её собственной молодости. — «Ноги мыть — и воду пить». Коли уж так служишь, так до конца. Слова повисли в воздухе. Сергей замер, полотенце в его руке остановилось на Анюткиной щиколотке. Он почувствовал, как девушка под его пальцами слегка вздрогнула. Шутка была простая, деревенская, но в ней сквозила какая-то древняя, почти мистическая правда об их странных отношениях. Принять всё. Без остатка. Он поднял глаза, встретился сначала с растерянным, а потом заинтересованным взглядом Анюты. Потом обернулся к темноте, где сидела Марфа Семёновна. В его голове, обычно послушной и смиренной в этом доме, что-то щёлкнуло. Не желание ослушаться, нет. А желание... доказать. Доказать глубину своего служения. Его преданность была не напускной, не для виду. Она была тотальной. И если шутка матери указывала на крайнюю степень покорности — выпить воду после мытья ног, — то он готов был найти свою, ещё более личную. Он медленно опустил полотенце. Взгляд его был серьёзен и совершенно ясен. Он посмотрел на воду в тазу. Она была уже не прозрачной, а мутновато-сероватой от мыльной пены, с плавающими в ней мелкими тёмными соринками — пылью с её ног, с частичками огрубевшей кожи. — Пить не стану, — тихо, но очень внятно сказал он. — Вода мыльная. В горнице воцарилась напряжённая тишина. Бабушка Агафья перестала перебирать чётки. Анютка застыла, широко раскрыв глаза. Марфа Семёновна чуть приподнялась в кресле. Но Сергей не закончил. Его движение было спокойным и абсолютно естественным, как будто он только что принял самое простое и логичное решение в мире. Он наклонился над тазом, зачерпнул в сложенные ладони ту самую, тёплую, мыльную воду, в которой только что мыл её ноги. И поднёс к лицу. — А вот лицо умыть... могу, — произнёс он сквозь воду в ладонях. И умылся. Тщательно, как умываются утром, проводя мокрыми руками по лбу, щекам, подбородку. Мыльная плёнка заструилась по его загорелому лицу, смывая пот и усталость дня. Капли закапали с подбородка обратно в таз. Он сделал это не как жест отчаяния или самоуничижения, а с каким-то странным, почти ритуальным достоинством. Это было принятие. Принятие её сути, её «отпечатка», её чистоты и её простой, человеческой «грязи» — в самом прямом и переносном смысле. Затем он выпрямился, взял то самое мягкое, вытертое полотенце, которым только что вытирал её ноги. И не спеша, аккуратно промокнул им своё лицо. Ткань, пахнущая теперь и её кожей, и мылом, и едва уловимым запахом его собственного служения, коснулась его щёк, лба, губ. Когда он опустил полотенце, в сенцах стояла гробовая тишина. Анютка смотрела на него, и в её глазах не было ни насмешки, ни брезгливости. Было нечто большее, чем потрясение. Было глубокое, молчаливое понимание, смешанное с внезапным приливом такой нежности и такой власти, что у неё перехватило дыхание. Он не просто вымыл её ноги. Он принял её в себя, буквально прикоснулся к ней своим лицом, стирая границы между «её» и «собой» самым немыслимым, самым интимным из возможных способов. Из горницы донёсся тихий, прерывистый вздох Марфы Семёновны. Потом её голос, уже без тени шутки, тихий и проникновенный: — Ох, деточка... Вот уж... не думала, что всерьёз... Ну... будьте вы счастливы, коли на то воля Божья... Бабушка Агафья что-то негромко прошептала, крестясь. Сергей же, закончив, аккуратно повесил полотенце на спинку табурета. Его лицо, умытое и вытертое, казалось, светилось изнутри тем самым ясным, обжигающим огнём полного самоотречения. Он посмотрел на Анюту, и в его взгляде был немой вопрос: «Правильно ли я поступил? Достаточно ли этого?» Она ничего не сказала. Она лишь медленно, очень медленно протянула к нему босую ногу и просто коснулась кончиками пальцев его губ. Прикосновение было лёгким, как дуновение, но оно говорило больше любых слов. Оно говорило: «Да. Ты мой. Теперь — совсем». Ритуал был завершён. Но что-то в нём изменилось навсегда. Граница, последний рубеж стыдливости и условностей, была перейдена. И в этой новой, пугающей и бесконечно глубокой реальности их любви-служения не осталось места для сомнений. Было только полное, безоговорочное принятие друг друга во всей странности и красоте этого чувства.
15171 1 98 Оставьте свой комментарийЗарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора svig22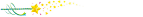 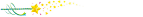 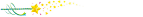 |
|
© 1997 - 2026 bestweapon.one
Страница сгенерирована за 0.006741 секунд
|

|