




|


 |
|
|
|
Сучка ОФА. Эволюция чувств Автор:
Eser777
Дата:
9 сентября 2025

Все чистый вымысел, прошу не относится серьезно) Глава 1: Ода пропавшему хвосту Собака умерла. Не героически, не под колесами спасающего ребенка велосипеда, а глупо и банально: съела на прогулке какую-то дрянь. Не кусок изысканного яда, подброшенный злодеем, а обрывок полиэтиленового пакета, пропитанный бензином и уличной грязью, или дохлую крысу, отравленную догхантерами. Обычный городской мусор, который она с жадностью подобрала у забора, пока Грэм на секунду отвлекся на крики дерущихся ворон. Отравилась и за ночь превратилась из лучшего друга человека в холодный, одеревеневший комок шерсти. Он нашел ее утром в ее корзине, застывшую в неестественной, сломанной куклы позе, с оскалом, обнажавшим жемчужно-белые клыки. Во рту засохла пена с вкраплениями чего-то синеватого, похожего на кристаллы медного купороса. Лапы были сведены судорогой, впившейся в старую плетеную корзину, как когти в скалу. Астра всегда спала, свернувшись калачиком, аккуратным бубликом, но смерть вывернула ее тело, придав ему чужой, угловатый и пугающий вид. Её звали Астра. Неплохое имя для собаки. Породистой, с родословной. Но Астра была обычной дворнягой, подобранной у метро в картонной коробке с надписью «Возьмите меня домой». Грэму тогда показалось, что имя, пахнущее звездами и космосом, идеально подойдет этому ушастому, голубоглазому щенку с шерстью цвета пыли и пепла. Для человека — странное, но об этом позже. Хозяина Астры звали Грэм. Не Грег, не Герасим, а именно Грэм. Он сам себе выбрал это имя в шестнадцать лет, посчитав Герасима слишком уж приземленным, пахнущим огородом и дедовским ватником, для своей тонкой, возвышенной натуры, видевшей мир в оттенках Payne's grey и умбры жженой. Грэм был художником. Вернее, он жил в подвале частного дома, который ему сдавала за небольшие деньги мать Офелии. Он малевал угрюмые, многослойные абстракции, в которых критики с подачи его единственного друга-галериста пытались разглядеть «тотальный крах постмодернизма», пока его не прижала нужда, и тогда он, стиснув зубы, перерисовывал по фотографиям умерших домашних животных — пуделей, сиамских кошек, попугаев-неразлучников — для безутешных хозяев, вешая на одну стену трагедию вселенского масштаба, а на другую — акварельного йорка в бантике. Ирония, которая сейчас кусала его за печень острее, чем любой цирроз, разъедала изнутри, как кислота. Подвал был его убежищем. Недорогим, сыроватым, но своим. Грэм содержал его в пуританской, почти монашеской опрятности, словно чистота и порядок могли компенсировать отсутствие окон и низкий, давящий потолок. Полы, хоть и бетонные, были чисто выметены и даже протерты тряпкой. Баночки с кистями, вымытые до скрипа, тюбики с красками, расставленные по цветовому спектру, — всё было расставлено на самодельных полках из старых ящиков с армейской точностью. Пахло не плесенью и сыростью, а скипидаром, краской и овсяным шампунем Астры — простым, дешевым, с запахом детства и чистоты. Это была не помойка, а аскетичная келья художника-отшельника, где единственным признаком легкомысленного бардака и безусловной жизни были разбросанные по углу игрушки собаки: прохудившаяся пищащая свинья, потрепанный канатик, резиновый мячик со сломанным свистком. Теперь и этот признак исчез. Игрушки лежали в картонной коробке, аккуратно сложенные туда самим Грэмом накануне вечером, после прогулки. Он тогда еще не знал, что это — последний вечер. Грэм не плакал. Он онемел. Подвал, и до того дышавший тихим, упорядоченным существованием, потерял последние признаки жизни — запахи (собачью шерсть, овсяный шампунь, сладковатый дух дешевого корма) и звуки. Он завернул Астру в её же любимое одеяло с объедками костей (ещё одна ирония) и отнес в ближайший лесопарк. Копать было тяжело, земля после дождя была вязкой и цепкой, как плохо замешанный раствор. Он вырыл яму ровно по размеру одеяльного свёртка, опустил его туда и засыпал. Он не поставил крестик. Он воткнул в землю палку — самую обычную, кривую, ободранную, какую Астра могла бы принести ему, виляя хвостом и закатывая глаза от восторга. Потом он вернулся в подвал. Комната оглохла. Скрип половицы у порога, который всегда предвещал её радостный топот, теперь казался зловещим. Тиканье настенных часов, подаренных когда-то матерью, отдавалось в висках пульсирующей болью. Он сел на голый бетонный пол посреди комнаты, на то самое место, где обычно лежала Астра, стирая лохматой шкурой пыль, и уставился в одну точку на стене, где когда-то брызнула краской — веселая желтая капля, которую он так и не закрасил. Тут и застала его соседка. Звали её Офелия. Не Оля, не Филя, а Офелия. Она работала бариста в кофейне с претензией на арт-пространство, носила винтажные платья с кроссовками и считала, что все в мире — метафора. Её прислала хозяйка Грэма, мать Офелии, обеспокоенная тем, что из подвала второй день не доносится ни звука, ни едкого запаха растворителя, а значит, её странный, но всегда аккуратный жилец или умер, или готовится к неоплате аренды. Офелия, морщась от запаха сырости, смешанного с запахом краски, сошла по крутым, но чистым ступеням и вошла, постучав для приличия (хотя дверь была не заперта). Ее взгляд скользнул по привычному порядку: холсты, аккуратно прислоненные к стене, тщательно вымытая палитра, пустая миска для воды, стоявшая на чистой тряпочке. И этот порядок делал фигуру Грэма, сидящего в позе эмбриона на полу, еще более неестественной и пугающей. Он вжался спиной в холодную стену, будто пытаясь стать частью этого стерильного от горя пространства. — Грэм? Алё? Ты жив? — голос её прозвучал неестественно громко в этой гнетущей, поглощающей звуки тишине подвала. Он медленно поднял на неё глаза. Зрачки были пустыми и расширенными, будто он только что вышел из кромешной тьмы. В них не было ни мысли, ни узнавания. Только густая, тягучая пустота, как черная краска на его палитре, которую он всегда разводил до консистенции жидной сметаны. — Что случилось? — спросила Офелия, чувствуя, как в груди закипает неподдельный, почти что шекспировский ужас, приправленный банальным любопытством. — Хвост, — хрипло произнес Грэм. Голос его скрипел, как несмазанная дверь. — Что? — Хвост пропал. Он не стучит по полу. Я слышал этот стук всегда. Даже когда его не было. Стук-стук-стук. Как метроном. Офелия огляделась. Следов борьбы не было. Все вещи стояли на своих местах с пугающей точностью. Мольберт стоял в углу, на полу валялась лишь одна потрепанная игрушка-пищалка в форме свиньи — единственный свидетель хаоса, который принесло с собой горе. — Кто? Что пропало? — Астра, — выдавил он и снова замолк, уставившись в потрескавшуюся, но чистую бетонную стяжку, словно разглядывая там сложную фреску. Офелия вздохнула с облегчением. А, собака. Ну, с собаками такое бывает. Она присела на корточки рядом с ним, стараясь не замарать платье, и положила руку ему на плечо. Майка была холодной и влажной от пота. Он вздрогнул от прикосновения, как от удара током, всем телом. — Мне жаль, — сказала она, нажимая на трагическую ноту в голосе, отработанную на плачущих над капучино клиентах. — Она была чудесной собакой. Такой... верной. Грэм вдруг оживился. Он повернулся к ней, и в его глазах вспыхнул какой-то странный, нездоровый огонь, осмысленный и дикий одновременно. — Верной? — переспросил он, и в уголке его рта дрогнула сухая, потрескавшаяся губа. — Это не то слово. Она была... идеальной. Предсказуемой. Она любила просто так. За еду, за прогулку, просто за то, что я есть. В её мире не было предательства, сложных мыслей, игр. Только чистая, безусловная физиология любви. Слюнявой и безоговорочной. Он говорил всё это, глядя не на Офелию, а куда-то сквозь неё, в заплесневелый угол подвала за её спиной, который резко контрастировал с общей чистотой. А потом его взгляд — острый, сфокусированный — упал на её руку, всё ещё лежавшую на его плече. Он уставился на неё с таким неземным, почти тактильным интересом, что Офелия невольно захотела её убрать. — Ты знаешь, чего мне сейчас не хватает? — прошептал он, и его дыхание пахло несвежим кофе и горькой желчью. — Чего? — прошептала в ответ Офелия, загипнотизированная его странностью и гнетущей атмосферой этого склепа. Ее собственный голос показался ей чужим, приглушенным этой поглощающей звуки тишиной. — Тепла. Живого тепла. — Его глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь нее, в пустоту за ее спиной. — Астра всегда грела мне ноги по ночам. Ее дыхание было ровным, как морской прибой. Она ложилась у моих ног точнехонько в половине десятого, как по расписанию. И ночь сразу становилась... структурированной. Предсказуемой. Здесь всегда холодно. Холодно внутри костей. И прежде чем Офелия успела понять, что происходит, Грэм взял её руку обеими своими. Его ладони были шершавыми от засохшей краски и ледяными, как мрамор. Он перевернул её руку ладонью вверх, пристально изучил каждую линию, каждую родинку, как картограф, составляющий карту неизвестной земли, а затем прижал к своей щеке. Офелия замерла. Это было столь неожиданно, столь интимно и столь жутко в этой полутьме, что она онемела. Отнять руку мешала та самая возвышенная мысль: «Боже, это же такая глубокая метафора горя! Человек ищет утешения в первом попавшемся живом тепле! Это так... по-шекспировски трагично». И еще — странное, щемящее чувство собственной нужности в этом жесте. Ее, Офелии, которую обычно считали просто странной девочкой с ее метафорами, сейчас кто-то держал как якорь спасения. Грэм закрыл глаза. Он дышал глубоко и ровно, втягивая воздух, как нюхательный табак, словно пытался вдохнуть в себя самую суть этого тепла, этого крошечного кусочка жизни в своем мертвом пространстве. — Да, — выдохнул он, и в его голосе прорвалась та самая, долгожданная для Офелии, ночь. — Примерно так. Только шершавее. Лапа у нее всегда была шершавой, как наждачка. И пахло... овсяным шампунем. Дешевым. Из зоомагазина на углу. Он провел её ладонью по своей щеке, потом по шее, как будто совершая некий древний, почти религиозный ритуал помазания. Офелия чувствовала, как по её спине бегут мурашки. Холодный пот выступил на лбу. Это уже выходило за рамки метафоры и становилось чем-то телесным, реальным и пугающим. Но и завораживающим. Она чувствовала его дрожь, мельчайшую вибрацию отчаяния, передававшуюся через ее кожу. — Грэм, я... — ее голос сорвался на шепот. — Молчи, — тихо, но твердо сказал он. — Ты такая тихая. Как она. И смотришь преданно. У неё тоже были карие глаза. Глубокие, как старый коньяк. В этот момент Офелия поняла две вещи. Первое: карие глаза были у неё, а у Астры, если память не изменяла, были голубые, ледяные, как у сибирского хаски. И второе, более важное: Грэм в своём горе перешёл какую-то грань. Он сейчас не гладит её руку. Он гладит призрак своей собаки. А она, Офелия, является лишь временным и не самым удобным носителем этого призрака. Но вместо острого страха это осознание вызвало в ней прилив странной, почти материнской жалости и... интереса. Где заканчивается метафора и начинается безумие? И есть ли между ними вообще разница? Она медленно, стараясь не делать резких движений, как при встрече с диким, раненым зверем, отняла руку. Кожа на его щеке была обветренной и неприятно холодной. — Мне нужно идти, — сказала она, поднимаясь и отступая к двери. — Мама ждёт. Грэм не стал её удерживать. Он просто смотрел на неё снизу вверх, и в его взгляде, поднятом с полумрака пола, читалась не человеческая тоска, а какая-то животная, первобытная растерянность ребенка, у которого отняли единственную игрушку. — Ты придёшь завтра? — спросил он, и в его голосе прозвучала та самая, почти неслышная надежда, которая ранит сильнее, чем требование. — В это время... у нас всегда была прогулка. Ровно в шесть. Она знала. Она уже подходила к двери и скребла ее, если я запаздывал. Офелия, уже стоя на нижней ступеньке лестницы, ведущей наверх, в нормальный, пахнущий кофе и свежей выпечкой мир, обернулась. Она видела перед собой не просто странного парня с поэтичным именем, а глубоко травмированного человека, который только что на её глазах начал процесс добровольного отречения от себя. И своего собственного, и её. И часть ее, та самая, что верила в метафоры и трагедии, уже была готова стать частью этой странной, пугающей пьесы. Она должна была сказать «нет». Твёрдо и ясно. Но она была Офелией. И мир для неё был метафорой. А это была самая мощная и трагичная метафора из всех, что она встречала: человек, пытающийся заменить душу животного — душой человека. Или наоборот? — Возможно, — сказала она, чувствуя, как запускает маховик абсурда, от которого уже не будет спасения. — Я... я подумаю. Грэм кивнул с странным, почти блаженным выражением лица, как будто только что получил самое главное подтверждение в своей жизни. — Хорошо. Я возьму с собой немного печенья. Того, с арахисом. Она его обожала. Оно хрустело у нее на зубах... как осенняя листва. Дверь в подвал закрылась. Офелия прислонилась к штукатурке стены, пытаясь перевести дыхание. Сердце колотилось, выбивая странный, тревожный ритм. Внутри нее боролись страх и пьянящее, запретное чувство причастности к чему-то по-настоящему глубокому и настоящему. Грэм остался сидеть на холодном, чисто выметенном полу в пустом подвале, в тишине, которую больше не нарушал стук хвоста о бетон. Но в его голове уже зарождался новый, спасительный бред, сложный и детализированный, как его лучшие картины. У него снова будет кто-то, кто будет смотреть на него преданными карими глазами. Кто будет греть ноги по ночам. Кто будет ждать прогулки ровно в шесть. Просто теперь этому кому-то придется ходить на двух ногах. Носить винтажные платья. И имя Офелия. Пока он не решит дать ей новое. Более подходящее. Ведь разве не в имени скрыта суть? А суть теперь была именно в этом. Глава 2: Тактика приручения Грэм ждал у подъезда с видом человека, случайно вышедшего подышать воздухом. В кармане его ветровки лежало печенье с арахисом, завернутое в ту самую промасленную бумагу, в которой он его всегда носил Астре. Он не ел его сам — ему было физически противно от мысли, что это печенье может пахнуть иначе, чем в его воспоминаниях. Оно было не угощением, а инструментом. Тактическим инструментом для выработки условного рефлекса. Он даже мысленно называл его не «печеньем», а «стимулом». Когда появилась Офелия, он сделал вид, что заметил её не сразу. Он смотрел на голые ветки дерева, будто размышляя о бренности бытия, а на деле репетируя в голове первую фразу, подбирая правильную интонацию — не слишком жалобную, но и не жизнерадостную. Золотая середина скорби, вызывающая симпатию, а не отторжение. Нельзя спугнуть дичь. — О, привет, — он обернулся, изобразив легкую, почти здоровую усталость человека, который старается держаться. — Вышел развеяться. Мозги проветрить. Воздух сегодня... свежий. Офелия замедлила шаг. Она была в том самом винтажном платье с цветочным принтом и с огромной экокожаной сумкой через плечо. Выглядела как существо с другой планеты, случайно занесенное в этот серый микрорайон. Грэм мгновенно провел сравнительный анализ. «Хрупкость. Ломкие ключицы, тонкие запястья, птичьи кости. Астра была коренастой, приземистой, настоящей крепышкой. Её лапы были толстыми и надежными. С Офелией придется быть аккуратнее. Её нельзя будет тыкать носом в лужу в воспитательных целях. Нельзя грубо тянуть за поводок. Методы нужны иные. Более тонкие.» — Здравствуйте, Грэм, — ответила она с осторожной, вежливой дистанцией в голосе. — Как ваши... дела? —Держусь, — он сделал искусную паузу, давая словам нужный трагический вес. Плечи его слегка ссутулились, изображая роль скорбящего. — Спасибо, что спросила. Идёшь на работу? —Да, в кофейню. Смена через полчаса. —Я немного прогуляюсь с тобой, если не против. В одиночестве как-то... тяжеловато. — он искусно не договорил, давая ей возможность дофантазировать всё самое жалостливое и поставить галочку в графе «помогла страдающему человеку». Офелия, конечно же, кивнула. Метафора страдания манила её, как фонарь ночного мотылька. Она не могла устоять. Они пошли. Первые несколько минут молчания были комфортными для него и напряженными для неё. Он давил на неё этим молчанием, как давят на дверь, проверяя, прочно ли она закрыта. Он вдыхал воздух ритмично и громко, как бы делясь с ней процессом своего «проветривания мозгов». —Знаешь, а ведь Астра обожала этот маршрут, — начал он наконец, размягчая оборону. Голос его звучал ровно, но с актерской, надтреснутостью. — Вот здесь, у этого газона, она всегда находила какую-нибудь дурацкую палку. Не самую красивую, а самую уродливую и корявую. Таскала её, гордая такая, высоко подняв голову. А вон у того подъезда, с синими дверями, жил её заклятый враг — рыжий кот-забияка. Она делала вид, что не замечает его, но уши у неё поднимались, как локаторы. Вся напрягалась, а хвост начинал вилять с низкой амплитудой, вот так. — Он показал рукой короткие, быстрые движения в воздухе. Он рассказывал. Подробно, с мельчайшими, гиперреалистичными деталями. О том, как Астра боялась канализационных решеток и обходила их за метр, как виляла хвостом во сне, стуча им по лежанке, и как однажды принесла ему в зубах не до конца закопанный чей-то детский башмак, вся перепачканная землей, и смотрела так, будто подарила ему сокровище. Он не смотрел на Офелию, он смотрел в призрачное прошлое, позволяя ей лишь краем глаза наблюдать за этим спектаклем, становиться его зрителем и соучастником. Офелия слушала, завороженная. Её первоначальный страх и настороженность постепенно растворялись в сладковатом, наркотическом растворе сочувствия и любопытства. —Она была действительно замечательной, — прошептала она, когда он замолчал, исчерпав на данный момент запас трогательных воспоминаний. —Да, — согласился Грэм с идеальной смесью грусти и светлой ностальгии. Потом резко, как бы возвращаясь в настоящее, перевел взгляд на неё. — А ты? Есть у тебя кто-то? Четвероногий, я имею в виду. Он прекрасно знал, что нет. Он давно уже изучил её привычки, звуки за стеной подвала. Никакого топота когтей, никакого скуления или звона лап о миску. Абсолютная, неприемлемая тишина с её стороны. —Нет, — покачала головой Офелия. — Мама аллергик. А одной заводить... страшновато. Это же большая ответственность. —Это не ответственность, — мягко, почти отечески поправил он её, делясь великой, откровенной истиной. — Это счастье. Она тебя никогда не предаст. Не скажет колкости, не потребует чего-то невозможного. Не станет обсуждать тебя за спиной. Ей нужны лишь еда, кров и твоё присутствие. Самая чистая, безусловная форма любви. Физиологическая и потому — идеальная. Он снова замолчал, давая ей переварить эту мысль, вживить её в свое сознание. Потом, будто спохватившись, что увлекся, сунул руку в карман. —О, черт, совсем забыл, — его голос стал обыденным, бытовым. — Купил себе к чаю. Не любишь арахисовое, случайно? А то я, пожалуй, не буду. Он достал тот самый, заветный сверток. Развернул промасленную бумагу, обнажив несколько круглых песочных печений с вкраплениями орехов. Запах был сладким и маслянистым. Он протянул пачку Офелии, не глядя на нее, делая вид, что это просто мелкая вежливость, ничего не значащий жест. Офелия колебалась всего секунду. —Спасибо, я люблю, — она взяла одно печенье. Ее движения были еще немного скованными. —Бери все, я себе еще куплю, — он махнул рукой, делая жест легким, незначительным. Его сердце забилось чуть чаще. «Клюнула.» Она взяла еще два, с благодарной улыбкой. Съела одно, аккуратно, стараясь не крошить. —Очень вкусное. —Да, простое, — сказал Грэм, и в его голосе прорвалась неподдельная, не срежиссированная нота. — Но она его обожала. Трещала на всю квартиру. Он произнес это не как жалобу, а как констатацию факта. Как часть ритуала. И в этот момент протянул ей оставшееся печенье на открытой ладони. Не в пачке, а на самой ладони. Жест был интимным, доверительным. Таким, каким кормят с руки пугливое животное, которое боятся спугнуть резким движением. Офелия замерла на секунду. Вчерашняя сцена в подвале мелькнула у нее в памяти — его ледяные пальцы на ее руке. Но сейчас все было иначе. Он был снаружи, на свету, он шутил и делился воспоминаниями. И это было просто печенье. Она медленно протянула руку и взяла его с его ладони. Ее пальцы едва коснулись его кожи. Грэм не смотрел на нее. Он делал вид, что наблюдает за голубями. Внутри него все пело. «Первое поощрение принято. Прямо с руки.» —Прости, я опять всё о своём, — сказал он, снова надевая маску светской скорби. — Как ты? Как работа? Не надоело разливать коричневую воду сомнительного происхождения людям, которые потом будут полчаса спорить о нотах кленового сиропа в ней? Он улыбнулся. Это была почти что обычная, человеческая, ироничная шутка. Контраст был разительным. Офелия рассмеялась, обрадованная и облегченная этим просветом в его скорби, этой щелью назад, в нормальность. И вкус печенья во рту был сладким и успокаивающим. —О, это целая вселенная! Ты не представляешь! Вчера один тип в очках от «Эйфеля» полчаса объяснял мне, что альтернативное молоко убивает не только вкус кофе, но и его, типа, духовную ауру. Я еле удержалась, чтобы не предложить ему капучино со святой водой. Она начала рассказывать. О невыносимых клиентах, о своих коллегах-хипстерах, помешанных на эстетике, о том, как мечтает скопить на курсы бариста и уйти в чистое искусство. Грэм слушал. Кивал в такт. Вставлял уместные реплики: «Ну надо же», «Представляю», «Это ужасно». Он не слышал ни слова. Он изучал её. Он видел, как анимируется её лицо, как жестикулируют тонкие, бесполезные с практической точки зрения руки. Он отметил, как она морщит нос, когда смеётся, — мило, но нефункционально. Он анализировал её голос: слишком высокий, почти звонкий, режущий слух. У Астры было тихое, хрипловатое, грудное повизгивание, когда она требовала внимания. Этот новый голос был диссонансом. Но это можно было пережить. Со временем, возможно, она научится быть тише и говорить более низким голосом, но это потом. Главное — её готовность идти на контакт, её открытость, её потребность быть нужной. Идеальная мишень для импринтинга. Они дошли до кофейни, ярко-желтой вывески которая резала глаза. —Спасибо, что прошла со мной, — сказал Грэм с идеально выверенной долей грусти и искренней благодарности. — Было... почти как раньше. Только без поводка. Он позволил себе эту маленькую, чуть рискованную метафору, зная, что её эстетская душа оценит игру и глубину. Офелия улыбнулась, и в её глазах вспыхнуло понимание — она поймала метафору. «Поймала», как собака мячик. Ирония ситуации была настолько густой, что Грэм чуть не рассмеялся вслух. —Мне тоже было приятно, — сказала она. Она уже почти поверила, что вчерашний инцидент в подвале был лишь спонтанным всплеском неконтролируемой боли. —Может, повторим? — предложил он небрежно, отводя взгляд, как бы стесняясь своей навязчивости. — Прогулки, я имею в виду. Мне полезно. А тебе, думаю, не помешает охрана от коварных местных котов. — Он кивнул в сторону того самого подъезда с синей дверью. Она засмеялась, польщенная и пойманная в ловушку собственного сочувствия. —Да, конечно. Почему бы и нет. —Отлично. Тогда до завтра. В то же время? Может, снова захвачу печенья. На всякий случай. —В то же время, — согласилась она, уже почти автоматически. — И да, печенье... оно действительно хорошее. Он повернулся и пошёл прочь, не оглядываясь. Он чувствовал её взгляд на своей спине, оценивающий, полный сочувствия и легкой тревоги. В кармане он сжал пустую, промасленную бумагу от печенья, и она беззвучно смялась. Тактика сработала безупречно. Первый этап приручения пройден. Доверие завоёвано. Рефлекс закреплен: его общество = приятная прогулка = вкусное поощрение. Теперь нужно работать над физической формой. Хрупкость Офелии беспокоила его. Астра могла пробежать пять километров в любую погоду и готова была бежать ещё. Офелия, судя по её дыханию на легком подъёме, уже запыхалась. Непородисто. Нужно будет постепенно, методично приучать её к длительным, энергичным прогулкам. Может, даже к бегу трусцой. Но всему своё время. Терпение — ключ к успешной дрессировке. Сейчас главное — не спугнуть. Кормить с руки, гладить по голове и поощрять за хорошее, покорное поведение. Он уже почти не чувствовал себя Грэмом. Он чувствовал себя хозяином. Хозяином ситуации. Хозяином процесса. Чьим именно — он сам ещё до конца не определился. Но процесс шел, и это было главное. Завтра он купит две пачки печенья. На всякий случай. Глава 3: Случайный поводок Прогулки стали ритуалом. Неприкосновенным и обязательным, как утренний кофе, который я сама же и готовила. Только Грэм был напитком странным, горьковатым, с долгим, навязчивым послевкусием, от которого уже не получалось отмахнуться. Отменять его я уже не могла. Не потому, что боялась его реакции — той первоначальной жути почти не осталось, — а потому что мне... начало нравиться. Это признание было таким же странным и горьким, как и он сам. Он оказался эрудитом. Я и не подозревала, что за маской угрюмого подвального затворника скрывается целая вселенная. Он рассказывал о Климте и его «золотом» периоде так, будто пил с ним кофе по утрам и спорил о пропорциях. Описывал свет на полотнах Вермеера так, что мне буквально хотелось щуриться, будто луч падал прямо из-за туч на серые панельные дома. Он мечтал увидеть фрески Сикстинской капеллы не в репродукциях, а вживую, вдохнуть тот самый воздух, пыльный и вечный, пропитанный позолотой и гением. — Я хочу написать что-то... выдающееся, — говорил он однажды, и в его глазах вспыхивал не тот безумный, остекленевший огонь, что был в день смерти Астры, а что-то иное. Человеческое. Жажда. Самая обыкновенная, творческая и тщеславная. — Не души умерших такс по фото, а нечто большее. Монументальное. Может, даже портрет. Хотя это и не моя специализация. Люди слишком... сложные. Он тогда посмотрел на меня так пристально, изучающе, что по спине побежали мурашки. Не от страха, а от чего-то другого, щекочущего и тревожного. Будто он видел не меня, Офелию, а мою фактуру, игру света на коже, линию скулы — лишь композицию. Возможно, будущий холст. Мне стало одновременно лестно и не по себе. А однажды он действительно защитил меня. Это было смешно и нелепо до колик. Мы возвращались уже затемно, и у гаражей к нам пристала пара подвыпивших парней. Стандартные шутки «девушка, дай номер» и «мужик, она твоя?». Я уже приготовилась быстро, бойко сказать «нет, мы просто соседи» и ускорять шаг, отворачиваясь, но Грэм вдруг встал между мной и ними. Не как рыцарь, а как живой щит. Он не полез в драку. Он даже не повысил голос. Он просто... зарычал. Низко, по-звериному, из самой глубины глотки, сдавленно и хрипло. Звук был настолько нечеловеческим, настолько искренним в своей чистой, животной угрозе, что у хулиганов моментально сдулись все намерения. Они отшатнулись, пробормотали что-то вроде «ну ладно, психоватый» и быстренько ретировались, почти бегом. Грэм обернулся ко мне. Его лицо было абсолютно спокойным, будто он только что не издавал звуков дикого зверя. — Все в порядке. Они просто искали слабину. Не нашли. Идем. Я смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. Мое сердце колотилось не от страха перед теми парнями, а от этого дикого, первобытного проявления... чего? Защиты? Собственности? Я почувствовала себя странно — одновременно напуганной до дрожи и в абсолютной безопасности. Как будто меня оберегает не человек, а какой-то большой, не совсем одомашненный зверь, для которого я — часть его территории. И вот сегодня он не пришел. Я ждала у подъезда десять минут. Пятнадцать. На небе сгущались свинцовые тучи, пахло грозой и озоном. Прохожие бросали на меня любопытные взгляды: девушка в слишком нарядном платье, явно кого-то ждущая. Я чувствовала себя глупо. Оставленной. Это знакомое, пробирающее до дрожи чувство, которое я, казалось, знала наизусть. Оно пахло старыми смс-ками с оправданиями и молчанием в ответ на мои вопросы о будущем. Меня бросали. Неоднократно. Красивые, умные, начитанные мужчины, которые сначала пылали страстью к моим винтажным платьям и цитатам из Камю, а потом вдруг начинали морщиться от моих метафор, называя их «утомительными», и просили быть «проще». Оказывалось, что моя «тонкая душевная организация» и «непохожесть на других» были нужны им лишь как изящная упаковка для банального и быстрого секса. Как только они понимали, что упаковка — это и есть суть товара, а внутри нет ничего простого и удобного, они уходили. Быстро и без сожалений. Именно поэтому Грэм с его безумием, его болью и его тоской по собаке стал для меня таким магнитом. Он был первым, кто смотрел сквозь меня. Кто не видел в меня объект для постели, а искал что-то другое — тепло, присутствие, молчаливое понимание. Его нужда была больше, чем похоть. Его боль — искреннее, чем их ухаживания. Быть нужной не как тело, а как спасательный круг — это была извращенная, но такая сладкая форма признания. Я была готова на всё, лишь бы не быть снова брошенной. Сначала мной завладела тревога. Вспомнила его манеру погружаться в себя, его отрешенность. А вдруг ему плохо? Лежит там, в своем сыром подвале, и не может пошевелиться? Рука сама потянулась к ручке двери подъезда, но я остановила себя. А если он работает? Если его посетило то самое вдохновение для «чего-то выдающегося»? Я представила, как вламываюсь в его творческий процесс с своими дурацкими переживаниями. Нет, я не могла себе этого позволить. Быть навязчивой — значит, разрушить хрупкое равновесие, которое установилось между нами. Потом мной начала шевелить обида, острая и едкая. А если он просто забыл? Считает наши прогулки чем-то само собой разумеющимся? Но тут же в голове возник его голос, спокойный и уставший: «Люди слишком сложные. Она никогда не предаст. Не потребует невозможного». И моя обида показалась мне мелкой, эгоистичной, почти что пошлой. Он дарил мне свои прогулки, свои метафоры, свое рычание для моей же защиты. Что я давала ему взамен? Немного молчаливого присутствия. Требовать большего было бы неблагодарностью. В конце концов, я пошла одна. Без него улицы показались пустынными и слишком шумными одновременно. Не с кем было делиться мыслями, некому было показывать на смешную вывеску или на кота, греющегося на трубе. Я ловила себя на том, что оборачиваюсь, чтобы сказать что-то ему... но за мной был только ветер, гнавший по асфальту перекати-поле из пыли и бумажек. Ноги сами понесли меня по привычному маршруту. Свернуть на другую улицу не возникло и мысли — это было бы предательством по отношению к ритуалу. К нашей тропе. Мне стало грустно. Не просто «жаль», а по-настоящему, физически ощутимо грустно. В горле стоял ком, в груди — тяжесть. Я привыкла к его присутствию. К его странным, нечеловеческим метафорам, которые вдруг стали казаться мне единственно верными. К его молчанию, которое было красноречивее любых слов. Я дошла до кофейни, купила двойной латте и села у окна. Хлынул ливень, тяжелые капли застучали по стеклу, за которым мгновенно поплыл мир. Я представила его одного в том подвале, с его холстами и призраками. Или, может, он уже пишет тот самый портрет? Тот, что «выдающийся»? С кого? И я поняла, что отчаянно хочу, чтобы он писал его с меня. Чтобы он смотрел на меня так пристально, как тогда. Чтобы видел сквозь меня, разбирал на пиксели и светотень. Лишь бы не смотрел сквозь меня, как сквозь пустое стекло, не видя и не узнавая. Лишь бы это молчание, эта сегодняшняя пропущенная прогулка, не означали, что я ему больше не интересна. Что я сделала что-то не так. Лишь бы завтра он снова ждал у подъезда. С печеньем в кармане и своим тихим, немного хриплым «Привет» на устах. Я была готова даже на рычание. Лишь бы не на эту оглушительную, предательскую тишину. Я знала, что завтра приду. Раньше, может быть. На всякий случай. Чтобы ждать его, а не он меня. Это было только справедливо. Глава 4: Тактильный контакт и новые маршруты На следующий день он стоял на привычном месте, как ни в чем не бывало. В его позе читалась какая-то новая, деловая уверенность, будто он не просто ждал, а проводил плановый осмотр территории. — Извини за вчерашнее отсутствие, — сказал он вместо приветствия, его голос был ровным, без тени сожаления. — Внезапно нагрянул клиент. Не какой-нибудь убивающийся над фото умершего йорка, а настоящий ценитель. Разглядел в углу мастерской один из моих старых, списанных в утиль холстов — тот, что вдохновлен ранним Босхом, помнишь, я рассказывал о его адских сценах как о метафоре человеческого подсознания? Так вот, этот чудак увидел в моих мазках не хаос, а «пророческий хаос» и купил сразу два. Сказал, что чувствует в них «грядущий распад антропоцена». Он не извинялся, он читал лекцию. И я поняла, что не получила бы никаких объяснений, не приди я сейчас. — Это же прекрасно! — искренне воскликнула я, отгоняя прочь вчерашние переживания. — Я за тебя рада. Настоящее признание! — Признание — громкое слово, — парировал он, мягко касаясь моей спины, чтобы задать направление движения. — Скорее, курьез. Как если бы арт-критик нашел шедевр в мусорном баке. Но факт остается фактом: два холста, которые я считал неудачными попытками поймать ускользающую суть страдания, обрели ценителя. Ирония судьбы, не правда ли? Пошли. Мы сделали несколько шагов, но вчерашняя пустота давила на меня. Я должна была сказать. — Я, вообще-то, вчера ждала, — осторожно начала я, глядя на свои ботинки. — Даже немного... погрузилась в меланхолию. Привыкла уже к нашим прогулкам. Они стали... важны. Он остановился. Я сделала еще пару шагов и обернулась. Он смотрел на меня с таким интенсивным, таким пристальным вниманием, что мне стало не по себе. В его глазах не было безумия или скорби — лишь стремительная, тревожная ясность, будто он только что разрешил сложную композиционную задачу и увидел недостающий элемент. Он закрыл расстояние между нами одним большим, уверенным шагом. Его руки, шершавые от краски и вечно прохладные, поднялись и взяли мое лицо в ладони. Движение было не грубым, но твердым, лишенным сомнений, словно скульптор, фиксирующий глину. Он не спрашивал разрешения. Он действовал. — Твоя грусть — это краска, нанесенная слишком толстым слоем, — произнес он тихо, почти шепотом, глядя мне прямо в глаза, изучая реакцию зрачков. — Она скрывает фактуру. А ты... ты прекрасна именно своей фактурой. Чистотой линий. Искренностью материала. И он поцеловал меня. Это было не проявление страсти. Это было утверждение. Констатация факта, глубокое исследование. В нем была какая-то странная, всепоглощающая концентрация. Будто он изучал на вкус не меня, а само понятие близости, текстуру доверия. Я замерла, не в силах пошевелиться. Во мне не было восторга — был только шок от этой внезапности и от той нечеловеческой серьезности, которой был наполнен этот жест. Он отстранился так же внезапно, как и начал, будто поставил точку в эксперименте. Его руки отпустили мое лицо. — Нам нужно обменяться телефонами, — заявил он, и в его голосе звучала деловая уверенность архитектора, приступающего к чертежам. — Чтобы твоя палитра не страдала от таких бесполезных оттенков, как грусть из-за нарушенного расписания. Недомолвки и ожидания — это банально. Прямота — вот что ценно. Я молча, на автомате, достала телефон. Мы обменялись номерами. Его пальцы быстро пролетали по экрану, он сразу внес меня в контакты под именем «Офелия». Без смайликов, без уменьшительно-ласкательных. Просто факт. Как в каталоге. С этого дня ритм нашей жизни изменился. Он стал диктовать его с тихой, неуклонной уверенностью, и я, к собственному удивлению, легко подчинялась. Когда я однажды задержалась на пять минут из-за клиента, он не упрекнул меня, лишь заметил ровным голосом: «Дисциплина — это форма уважения. К времени. К ритуалу». Больше я не опаздывала. Никогда. Он стал забирать меня с работы, появляясь ровно в семь у дверей кофейни. Наши вечерние прогулки растянулись, превратились в долгие маршруты по незнакомым переулкам. Он показывал мне город, каким видел его он — бесконечную галерею ускользающих шедевров. «Смотри, — говорил он, останавливаясь у облупленного фасада, — как падает этот свет на лепнину. Прямо как на тех голландских натюрмортах, где каждый предмет — главный герой вселенной. А эта трещина на асфальте... видишь, как она повторяет изгиб ветки вяза? Готовая композиция». А потом начались пробежки. Вернее, его легкий бег и мои неуклюжие попытки не отстать, пока сердце не колотилось, как птица в клетке. «Не борись с дыханием, — наставлял он, двигаясь рядом с пугающей легкостью. — Прислушайся к его ритму. Сделай шаг на вдох, два на выдох. Это медитация. Движущаяся медитация». Он не смеялся над моей неподготовленностью. Он инструктировал. Поправлял. И когда через пару недель я наконец смогла пробежать без остановки несколько сотен метров, он кивнул с тем же удовлетворением, с каким смотрел на удавшийся мазок на холсте. «Хорошо. Завтра добавим еще». Его прикосновения стали привычными. Он мог поправить прядь моих волос, выбившуюся на ветру, провести пальцем по линии ключицы, говоря о ее изящном изгибе, или просто положить руку мне на спину, направляя. Сначала я вздрагивала от каждого прикосновения, помня тот первый, шокирующий поцелуй. Но постепенно я привыкла. Его прикосновения были лишены обычной человеческой ласки. Они были... оценочными. Проверяющими. Как будто он постоянно следил за состоянием материала. Мы могли молчать всю прогулку. Раньше это меня смущало, заставляло лезть в карман за телефоном. Теперь я начала понимать ценность этого молчания. Оно не было неловким. Оно было наполненным. Мы смотрели на один и тот же ржавый гвоздь в заборе, на отражение неба в луже, и мне казалось, что мы видим одно и то же. Что мы думаем об одном. Его молчание было не отсутствием слов, а их высшей, сконцентрированной формой. Его мир, с его жесткой эстетикой, его правилами, его особым, всепоглощающим видением, постепенно поглощал меня. И где-то в глубине души мне начало казаться, что быть частью этого мира, быть этим «искренним материалом» — единственный способ быть для него по-настоящему замеченной и ценной. Прошел месяц. Месяц ежедневных прогулок, пробежек и молчаливых вечеров в подвале, где я сидела на полу, а Грэм работал, изредка бросая на меня взгляд, будто сверяясь с натурой. И за этот месяц я научилась есть печенье. Все началось с того, что он перестал просто отдавать мне всю пачку. Он доставал ее из кармана, разворачивал промасленную бумагу и, протягивая, вдруг задерживал ее чуть в стороне. — Подожди, — говорил он, и его взгляд становился пристальным, изучающим. — Ты ведь не голодна прямо сейчас, верно? Это не еда. Это — ритуал. Вкус памяти. Его нужно ощутить, а не проглотить. Потом он начал брать печенье сам. Держал его между большим и указательным пальцами, внимательно рассматривая, как будто впервые видя. — Смотри, какой совершенный круг. И запах... сладкий, но с горчинкой. Как и должно быть. И тогда он подносил его ко мне. Не вкладывал в руку, а просто держал в воздухе, в сантиметре от моих губ. Я замирала, не понимая, что делать. Первый раз я смущенно взяла его пальцами. Он не одернул меня, но его лицо выразило легкую, почти незаметную тень разочарования. — Не торопись, — сказал он тогда. — Поспешность убивает момент. На следующий день он повторил то же самое. Снова замер с печеньем в руке. И в какой-то момент, поддавшись какому-то необъяснимому импульсу, я наклонилась и аккуратно взяла печенье прямо с его ладони губами. Я боялась укусить его за палец, боялась показаться нелепой. Но он не отдернул руку. На его лице, напротив, появилось странное, почти отцовское выражение глубокого удовлетворения. — Вот так, — тихо произнес он. — Именно так. Чувствуешь разницу? Ты не берешь, ты принимаешь. Это более честный обмен. С этого дня мы так и ели печенье. Он держал, а я брала прямо с его руки. Сначала это было неловко, я краснела и крошила больше, чем съедала. Но постепенно это вошло в привычку. Я научилась точно рассчитывать движение, чтобы не задеть его пальцы. Я даже начала различать едва уловимые оттенки в его настроении по тому, как он сегодня подает печенье — медленно и торжественно или быстро и деловито. Это был самый странный и самый интимный ритуал в моей жизни. Гораздо более интимный, чем любой поцелуй. В его молчаливом предложении и моем беззвучном согласии был заключен какой-то древний, почти животный пакт. Актом абсолютного доверия и абсолютного подчинения одновременно. Он давал мне пищу. Я принимала ее из его рук. Без вопросов. Без условий. И где-то глубоко внутри я понимала, что это не про печенье. Это про нечто гораздо большее. Но задавать вопросы означало бы разрушить хрупкую магию этого действа. А я не хотела его разрушать. Я хотела, чтобы оно длилось вечно. Глава 5: Процесс кормления Я решил, что пришло время. Месяц прогулок, пробежек, печенья из рук — вся эта «социализация» сделала свое дело. Теперь нужен был следующий этап — более близкий, более интимный контакт. Ужин. Я не спросил её. Я сообщил. «Сегодня я приглашаю тебя на ужин. К себе». Она промямлила что-то насчёт «не надо затруднений», но я уже положил трубку. Возражения не были частью плана. Приготовление ужина в подвале было квестом на выживание. Компактная плитка с одной работающей конфоркой, крошечная раковина с вечно холодной водой, отсутствие нормальной вентиляции — всё это было моим привычным адом. Но сегодня ад должен был преобразиться. Я потратил два часа на то, чтобы вычистить помещение. Убрал холсты в дальний угол, накрыл их простыней, словно трупы. Вымел пыльные паутины с углов, протер единственный стол — старый, поцарапанный, служивший мне и обеденным столом, и рабочим местом. Пахло теперь не скипидаром и плесенью, а слабым ароматом хлорки и чего-то нового, незнакомого этому месту — ожиданием. Я приготовил рыбу. Морского окуня. Это было логично: лёгкое, полезное, диетическое мясо. Никаких тяжёлых соусов, ничего, что могло бы перебить естественный вкус или вызвать несварение. Но в условиях подвала это был подвиг. Разделывать тушку при тусклом свете единственной лампы, отделяя филе от костей с хирургической точностью, когда пальцы пахли не рыбой, а скипидаром. Жарить на сквозняке, который норовил потушить слабый огонь конфорки. Каждое движение было выверено, продумано, как сложная инженерная операция. Я делал это для неё. Преодолевал негостеприимство своего логова, чтобы сделать его приемлемым для неё. Она пришла ровно в восемь, как и было оговорено. Пахла дождём и своим каким-то цветочным шампунем, который врезался в обоняние острым клином, перебивая запах чистоты и жареной рыбы. Я усадил её за стол, который нарочно поставил так, чтобы свет от лампы падал прямо на неё, оставляя остальное пространство подвала в таинственном полумраке. Она была моим главным блюдом, самым ярким пятном в композиции. — Расслабься, — сказал я, принося тарелки. Свой голос я сделал ровным, убаюкивающим. — Всё уже готово. Она пыталась шутить, говорить о чём-то, о работе, о погоде, о духоте в подвале. Я почти не слушал. Я наблюдал за её руками, за тем, как она нервно перебирает салфетку, за тем, как её глаза скользят по затененным углам, где прятались призраки моих картин. Она была напряжена. Это было недопустимо. Напряжение — это барьер. Его нужно было снять. Когда она потянулась за вилкой, я мягко, но твёрдо остановил её руку. Мои пальцы легли на её запястье, чувствуя под кожей частый, птичий пульс. — Позволь мне. Я же знаю, к чему ты привыкла. Она посмотрела на меня с удивлением, смешанным с легкой паникой. Я взял её вилку, наколол идеальный, небольшой кусочек белого нежного филе, поднёс ко её рту. — Открой рот. Она засмеялась с нервной дрожью. — Грэм, я сама могу, я не ребёнок... — Я знаю. Но я хочу это сделать. Ты же уже делала это. И для меня в этом есть своя красота. Свой ритуал. Точность жеста. Осознанность момента. Пожалуйста. Она смутилась, но послушно открыла рот. Я вложил в него кусочек. Она прожевала, смотря на меня широко раскрытыми глазами, в которых читался полный когнитивный диссонанс. — Вкусно? — спросил я. — Очень, — прошептала она, и голос её дрогнул. Я наколол следующий кусок. И следующий. Кормление было идеально выверенным процессом. Я давал ей ровно столько, сколько нужно было прожевать без усилий, выдерживая паузу, следя за тем, чтобы она проглотила. Я не сводил с неё глаз, изучая малейшие изменения в её лице, игру света на её коже. — Ты знаешь, в этом есть свой эротизм, — сказал я спокойно, как если бы говорил о технике мазка в живописи. — Полное доверие. Ты принимаешь от меня пищу. Позволяешь мне заботиться о тебе. Позволяешь мне быть тем, кто даёт тебе силы. Это очень интимно. Глубже, чем любая страсть. Это акт творения. И ты в этот момент невероятно красива. Как живой натюрморт. Она раскраснелась. Алая волна залила её щёки, шею, зону декольте. Она пыталась отвести взгляд, но я держал его. Она была прекрасна в своём смущении. Как полотно, на котором эмоции проявлялись самыми яркими, чистыми красками. — Твои ресницы дрожат, — заметил я, поднося очередную порцию. — Когда ты смущаешься. Это очаровательно. Как трепет крыльев мотылька на солнце. Она машинально открыла рот, всё ещё пылая, полностью покорившись ритуалу. — Я читал, — продолжал я свой монолог, пока она жевала, — что в некоторых архаичных культурах кормление с руки — это высшая форма нежности и принятия. Выше поцелуя. Ты не просто делишься едой. Ты делишься жизнью. Своей сущностью. И сейчас я делюсь с тобой своей. Вкладываю в тебя часть своего мира. Самую отборную. Я кормил её до тех пор, пока тарелка не опустела. Она не произнесла ни слова, лишь изредка кивала, покорная, смущённая, прекрасная. Когда процесс был завершён, я отложил вилку, удовлетворённо кивнул. — Вот и всё. Теперь ты сыта. Теперь ты часть этого. — Спасибо, — выдохнула она, и в её голосе была странная смесь облегчения и опустошения. — Не за что. Для меня это было важно. Я собрал последнюю каплю соуса с тарелки и поднес к ее губам. Она замерла на мгновение, затем медленно, почти ритуально, облизала мой палец. Кожа губами была теплой и влажной. Я аккуратно вытер ее губы салфеткой, движением точным и бережным, как будто снимая излишки лака с готовой работы. Она сидела, всё ещё красная, и смотрела на свои руки, будто впервые видя их. Я убрал со стола, давая ей время прийти в себя, осознать глубину произошедшего. Эта ночь была важным шагом. Она позволила мне кормить себя. Она приняла мою заботу в самой базовой, самой примитивной форме. Она постепенно училась быть моей. И я был бесконечно терпелив. ...Я сидела, всё ещё красная, и смотрела на свои руки, будто впервые видя их. Внутри всё звенело от тишины, гудело, как раковина после громкого концерта. Стыд и смущение пылали на моих щеках, но под этим пламенем тлело что-то другое. Что-то тёплое и странно-сладкое. Он кормил меня. С руки. Как маленькую. Как... как животное. Мысль должна была вызвать отторжение, бунт. Но его не было. Была лишь оглушительная, парализующая ясность: никто и никогда не заботился обо мне так. Не с такой концентрацией, с таким невероятным, пугающим вниманием. Никто не смотрел на меня так, словно каждое движение моего лица, каждый вздох — это уникальное событие, достойное изучения. Алексей водил меня в модные рестораны, но его взгляд постоянно скользил по залу, оценивая, кто здесь есть, кто на него смотрит. Еда была фоном для его самопрезентации. Марк вообще считал ужины досадной формальностью на пути к десерту в моей постели. А Грэм... Грэм не предлагал мне еду. Он предлагал мне весь себя в этом акте. Свою силу, свой контроль, свою... заботу. Да, это была забота. Странная, извращённая, доведенная до абсолюта, но забота. Он преодолел негостеприимство своего мира, чтобы накормить меня. Чистил рыбу этими своими вечно пахнущими скипидаром руками, жарил её на одной конфорке — для меня. Он вложил в этот ужин столько внимания, сколько другие не вкладывали за все месяцы отношений. И когда он смотрел на меня, поднося вилку, в его глазах не было насмешки или превосходства. Была та самая «ясность», о которой он говорил. Полная поглощённость процессом. Мной. В этот момент я была для него не Офелией-соседкой, не Офелией-женщиной. Я была... всем. Центром вселенной, которую он выстроил вокруг этого стола, этого кусочка рыбы. И в этом была пьянящая, опьяняющая сила. Быть единственным и главным объектом чьего-то абсолютного внимания. Чьей-то тиранической, всепоглощающей заботы. Это было унизительно и по-королевски лестно одновременно. Это было стыдно — и бесконечно приятно. Он видел меня насквозь, видел мою потребность быть значимой, нужной, и он удовлетворял её самым неожиданным и прямым способом. Он не дарил мне цветы — он кормил меня с руки. Он не говорил комплиментов — он изучал дрожь моих ресниц. И я... я принимала это. Потому что за всем этим стояла чудовищная, не знающая компромиссов искренность. Он не играл в галантного кавалера. Он был самим собой. И в своем безумии он был честнее всех здоровых мужчин, что были в моей жизни. Я облизала его палец. Потому что это было продолжением ритуала. Потому что это было правильно. Потому что в этот момент я чувствовала себя по-настоящему любимой. Такой, какая я есть. Странной, сложной, ненормальной. Его. Он убирал со стола, а я сидела в ореоле света, чувствуя, как жар медленно отступает с моих щёк, оставляя после себя глухое, смиренное тепло. И тихую, почти невыносимую благодарность. Глава 6: Симбиоз Я задумался. Процесс шёл, как ни странно, в обе стороны. Я менял Офелию, лепил и шлифовал, подгоняя под идеал, который носил в голове — идеал верности, покорности, безусловной и безоговорочной любви. Но и она меняла меня. Неосознанно, конечно, самим фактом своего существования. Своим присутствием, своей человеческой, порой наивной потребностью в каком-то социальном взаимодействии, которое выходило за рамки моих первоначальных, строго утилитарных планов. Она вносила в мой мир элемент непредсказуемости, и мне приходилось подстраиваться. После продажи тех двух картин во мне что-то щёлкнуло. Не сам факт продажи, а её причина — «пророческий хаос» и «распад антропоцена». Я вдруг осознал, что моё уединение, моя затворническая жизнь в подвале — это не признак гениальности, а простая лень и пораженчество. Настоящий хозяин обеспечивает своё существо. Если я хозяин, то мой питомец должен жить в достатке, без забот. Ей нужна была не конура, а просторная, светлая квартира. Не объедки с моего стола, а качественная, отборная еда. Не самодельный ошейник из старого ремня, а красивые, дорогие, статусные вещи, подчёркивающие её ценность и, следовательно, мою состоятельность как её владельца. Я занялся интенсивным, почти что агрессивным продвижением своих работ. Перестал быть угрюмым, непонятым гением из подвала. Я стал предприимчивым, расчетливым дельцом от искусства. Создал аккаунты в соцсетях, где выкладывал не только готовые работы, но и тщательно срежиссированный процесс: кисти в стакане на фоне заляпанного краской стола, крупные планы палитры с хаотичным, но выверенным по колориту набором красок, свои руки в пятнах ультрамарина и охры. Я писал не о вдохновении, а о технике, о влиянии Бэкона на современный портрет, о дегуманизации в духе Чимичо. Я нашёл через интернет несколько салонов интерьера, готовых взять мои картины на комиссию. Написал настойчивые, уверенные письма владельцам небольших галерей, предлагая не «взглянуть на моё творчество», а свои услуги как уникального продукта. Я говорил с ними не как стеснительный художник, а как деловой партнер, уверенный в качестве и востребованности своего товара. Я научился говорить их языком: «уникальное торговое предложение», «эксклюзивность», «инвестиция в искусство», «потенциал роста стоимости». Деньги потекли. Не ручьём, но стабильным, растущим потоком. Цены на мои «неудачи» выросли втрое. Ко мне выстроилась очередь из таких же, как тот первый клиент, — богатых, уставших от гламура горожан, желавших прикоснуться к «настоящему», к «хаосу». И я продавал им его. Упакованный в рамы. Я не разбогател. Но я перестал быть нищим. Я мог позволить себе качественные краски, новую одежду, которая не кричала о бедности, и, наконец, ужин в хорошем ресторане. Это не было расточительством. Это было инвестицией. Инвестицией в её образ, в её выдержку, в наш общий экстерьер. Я покупал не еду. Я покупал опыт, который должен был отшлифовать её до нужного мне блеска. Каждый потраченный евро был оправдан с точки зрения дальнейшей стратегии. Я наконец-то понял простую истину: чтобы быть свободным художником, нужно сначала стать проницательным бизнесменом. Чтобы лелеять свой хаос, нужен жёсткий порядок в финансах. И я его создал. Ради неё. И я начал методично воплощать в жизнь второй, главный пункт своего плана: обеспечить Офелии чувство постоянной, тотальной заботы и безопасности. Она должна была знать, что о ней думают, что её любят и что её хозяин — её главный и нерушимый якорь в этом хаотичном, несовершенном мире. Подарки должны были быть не просто дорогими. Они должны были быть практичными. Полезными. Ежедневными напоминанием о моей заботе. Таким первым осознанным подарком стали кроссовки. Я заметил, что после наших утренних пробежек она немного прихрамывает, снимая свои старые, до невозможности стоптанные кеды. Её ноги, такие хрупкие и неприспособленные, нуждались в надёжной, профессиональной опоре. Это был дефект её «породы», который нужно было компенсировать. Я потратил два вечера на изучение десятков моделей, читал отзывы ортопедов и марафонцев, консультировался с продавцами в специализированных магазинах. Выбор пал на лёгкие, анатомические кроссовки японского бренда с максимальной амортизацией в подошве и идеальной поддержкой свода стопы. Функциональность, доведенная до элегантности. Я подарил их ей без повода. Просто встретил после работы, протянул аккуратную коробку. — Это тебе. Носи на здоровье. Она удивлённо раскрыла коробку, увидела логотип, поняла, что это не просто так, не дешёвый ширпотреб. — Грэм, что ты? Зачем? Это же слишком дорого... Я не могу принять... — Твои старые кроссовки методично калечат твои суставы и позвоночник, — отрезал я ровным, безапелляционным тоном, не допуская пространных благодарностей или возражений. — Для наших пробежек нужна правильная, профессиональная экипировка. Я забочусь о твоём физическом состоянии. Это необходимость. Она надела их тут же, на скамейке у входа в парк. Встала, сделала несколько пробных шагов. Её лицо озарила улыбка чистого, почти что детского, животного восторга. — Боже, они такие лёгкие! И ногам так удобно! Словно иду по облаку! Я никогда не чувствовала такой поддержки! Я смотрел на неё и чувствовал глубокое, почти что физиологическое удовлетворение, схожее с тем, когда после долгой работы удается идеально прописать сложный участок на холсте. Да. Именно так. Я обеспечил ей комфорт. Я предупредил её потребность, о которой она, возможно, даже не задумывалась всерьёз. Я доказал на практике, что моя забота — не абстракция, а нечто осязаемое, практичное, ежедневное, улучшающее её жизнь на фундаментальном уровне. Она обняла меня, щека её прижалась к моей груди. Я погладил её по голове, почувствовал под ладонью шелковистость её волос. — Спасибо, — прошептала она, и в её голосе была настоящая, неподдельная благодарность. — Пустяки, — ответил я. — Это моя прямая обязанность. И это была чистая правда. Я стал её якорем, её источником безопасности и благополучия. А она, сама того не ведая, стала моим двигателем, моим катализатором, заставившим меня выбраться из тени, из своего уютного, гниющего подвала, и стать сильнее, целеустремлённее, эффективнее — ради неё. Симбиоз работал безупречно. Мы оба получали то, что нам было нужно. Она — заботу и опору. Я — цель и смысл. Глава 7: Экстерьер и выставочный выход Я чётко понимал, кого хочу в ней видеть. Если говорить языком кинологов — а этот язык стал мне ближе, честнее и понятнее человеческого — то я хотел безупречную представительницу породы. Сильную, выносливую, с идеальным экстерьером и устойчивой психикой. Такую, чтобы на любой «выставке» в ней безошибочно угадывалась рука опытного заводчика. Моя рука. Работа над экстерьером шла планомерно и неуклонно. Утренние пробежки, доведенные до автоматизма, правильное, сбалансированное питание, которое я теперь тщательно контролировал. Никакого фастфуда, никакого сахара, разрушающего не только зубы, но и дисциплину. Только отборный рацион, богатый белком для мышечного тонуса и витаминами для сияющей шерсти — то есть, кожи и волос. Она иногда с тоской, почти виновато, смотрела на витрины кондитерских, но я мягко, но неотвратимо отводил её взгляд в сторону. «Это не для тебя, дорогая. Это пустые калории, мусор. Ты заслуживаешь лучшего». Следующим этапом стал гардероб. Её винтажные платьица с кроссовками были милым, но дурновкусным проявлением незрелой индивидуальности, лохматостью непородистого щенка. Это не соответствовало образу идеальной, ухоженной, статусной спутницы. Я начал с основ: купил ей элегантное шерстяное пальто итальянского кроя, которое идеально сидело на её хрупких плечах, подчеркивая линию спины. Потом — пару качественных, классических брюк из мягкой шерсти и шёлковую блузу цвета увядшей розы. Она смущалась, когда я вручал ей пакеты, бормотала что-то о ненужных тратах, но протестовала всё слабее. Она привыкала к тому, что я лучше знаю, что ей идёт, так же как я знал, какой корм для неё оптимален. Перед выходом в ресторан я попросил её надеть новую блузку. Она вышла из ванной, застенчиво поправляя шелк на плечах. — Подожди, — остановил я её. — Блузка идеальна. Но под ней должно быть... ничего. Сними лифчик. Он создает лишнюю линию, искажает чистый силуэт. Мне нужна чистота. Она замерла, на её лицо накатила знакомая волна смущения. — Грэм, я... — Пожалуйста, — сказал я мягко, но твёрдо. — Это важно. Для целостности образа. Она молча кивнула, повернулась ко мне спиной и расстегнула застёжку. Я принял из её рук тёплый, кружевной предмет, ещё хранивший форму её тела, и отложил его в сторону. Она стояла, слегка сгорбившись, стараясь скрыть свою наготу под тонким шёлком. — Выпрямись, — попросил я. — Ты прекрасна. Совершенна. Теперь всё идеально. Кульминацией этой подготовки стал поход в ресторан. Не в пиццерию или бургерную, а в настоящий ресторан с белыми скатертями, приглушенной музыкой и официантами в смокингах. Это был тест на послушание, выдержку и умение вести себя в ринге. Она нервничала с самого порога. Её пальцы вцепились в мой локоть так, что коготки впились в ткань пиджака. — Грэм, я не уверена... Здесь так людно... Я... — Тихо, — сказал я спокойно, но тоном, не допускающим возражений, ведя её за собой, как на поводке. — Всё в порядке. Я с тобой. Просто следуй за мной, держись рядом и делай, как я. Дыши ровно. Я чувствовал, как дрожит её рука, как учащенно бьётся её сердце. Я выбрал столик в углу, чтобы у неё была опора за спиной и панорамный обзор всего зала — это снижало тревожность. Я заказал за нас обоих, не спрашивая её мнения. Еда должна была быть лёгкой, изысканной, соответствующей моменту: тартар из тунца, салат с козьим сыром, минеральная вода. Ничего тяжелого, что могло бы вызвать дискомфорт. Она сидела очень прямо, словно по струнке, словно боялась пошевелиться, глаза её бегали по залу, считывая чужие взгляды. Она неуверенно, почти по-детски пользовалась приборами. — Ты прекрасно выглядишь, — сказал я, ловя её взгляд и удерживая его. — Этот наряд идеально сидит на тебе. Ты — самое изящное и ухоженное существо в этом зале. Все смотрят на тебя с восхищением. Она покраснела, но дрожь в руках немного утихла. Комплименты, произнесенные с холодной, констатирующей точностью, были для неё высшей формой поощрения, лакомством за хорошее поведение. Был один кризисный момент. На десерт подали воздушное шоколадное суфле. Она потянулась за ложкой, но я мягко опередил её. — Позволь мне. Я отломил небольшой, идеальный кусочек кончиком её же ложки, бережно поднёс к её губам. Она замерла, на её лицо снова накатила волна панического смущения. Лёгкий, едва слышный шепот за соседним столиком резанул по воздуху, как удар хлыста. Она потупила взгляд, губы её задрожали. — Не обращай внимания на статистов, — тихо, но властно приказал я. — Смотри на меня. Только на меня. Я твой хендлер. Я здесь только я. Она подняла на меня глаза — испуганные, растерянные, по-щенячьи умоляющие. Я держал взгляд, полный абсолютной уверенности и безраздельного одобрения. — Открой рот. Она послушалась. Я вложил в её рот кусочек десерта. Сахарная пыльца осталась у неё на верхней губе. Я аккуратно, с какой-то почти ритуальной нежностью стёр её краем салфетки. Это был жест огромной интимности, тотальной собственности и демонстрации контроля. Соседи застыли, затем демонстративно отвернулись. И случилось чудо. После этого она словно сдалась, приняла правила игры. Напряжение ушло из её плеч, спина выпрямилась уже не от зажатости, а от гордой осанки. Она перестала оглядываться по сторонам, её движения стали плавными, грациозными, уверенными. Она даже улыбнулась официанту — короткой, вежливой, ничего не значащей улыбкой выставочного чемпиона, когда тот спросил, понравился ли нам ужин. К концу вечера она полностью освоилась в своей роли. Она была изящна, молчалива, послушна, абсолютно управляема. Её глаза сияли не от счастья, а от гордости за то, что она справилась, что не подвела меня, что выдержала экзамен. Я вёл её домой, и она шла рядом, высоко держа голову, её рука лежала на моём сгибе локтя уже без дрожи, с чувством законного права и принадлежности к элите. — Ты был прав, — тихо сказала она уже у своего подъезда. В её голосе была усталость, но и новое, твёрдое уважение. — Это был... необходимый опыт. — Конечно, я был прав, — ответил я, поглаживая её по руке, чувствуя под тонкой шерстью тёплую, живую кожу. — Я всегда прав, когда дело касается тебя. Ты была великолепна. Безупречна. Она улыбнулась, и в этой улыбке была уже не та нервная, взъерошенная девочка, что вошла в ресторан, а уверенная в себе, красивая, породистая сука. Моя сука. Готовая к любой, самой престижной выставке. И к следующему этапу дрессировки. ...Я шла рядом с ним, высоко неся голову, чувствуя его одобрение как тёплую, животворящую волну. Но под этим чувством, под шелком новой блузки, бушевало другое — стыдливое, влажное, навязчивое. Только лифчик. Зачем я отдала только лифчик? Шёлк был невероятно нежным, но каждое движение, каждое трение ткани о затвердевшие, чувствительные соски отзывалось внизу живота короткими, острыми спазмами. Я шла ровно и гордо, а внутри меня плясали демоны. Мне казалось, что весь ресторан видел это, видел, как тонкий материал прилипает ко мне, выдавая моё унизительное, постыдное возбуждение. Нужно было отдать всё. Сразу. Снять с себя всё это кружево, эту последнюю жалкую преграду. Они всё равно промокли насквозь, стали липкими и бесполезными. Я чувствовала это каждый раз, когда ерзалась на стуле, пытаясь найти удобное положение, которого не существовало. Его взгляд, его полный контроль над каждым моим движением, его властная забота — всё это сводило меня с ума. Когда он кормил меня с ложки, вытирал мне губы, я чувствовала, как между ног становится тепло и мокро, как будто моё собственное тело предавало меня, реагируя на его абсолютную власть с животной, неприличной готовностью. И теперь, идя рядом с ним, я думала лишь об одном: о том, как бы он посмотрел на меня, если бы я была полностью обнажена под этим платьем. Не в мастерской, а здесь, на людной улице. Чтобы все видели, до какой степени я ему принадлежу. Чтобы не было никаких секретов, никаких уголков, куда он не имел бы доступа. Я жалела. Жалела о своей робости, о своей глупой попытке сохранить хоть крупицу стыда. Это было лицемерие. Ведь всё во мне уже давно сдалось ему. Так зачем же было цепляться за этот жалкий клочок кружева? Это только мешало. Мешало чувствовать полную отдачу. Мешало ему видеть всё — и моё послушание, и моё возбуждение, которое было лишь частью этого послушания. В следующий раз, обещала я себе, дрожа от стыда и предвкушения. В следующий раз я отдам ему всё. Чтобы ничто не мешало шелку тереться о кожу. Чтобы он видел, на что я готова ради его одобрения. Чтобы он знал, что каждая клетка моего тела признаёт в нём хозяина. Глава 8: Готовность Иногда, в редкие секунды тишины между его командами и моим послушанием, во мне просыпался слабый, испуганный голосок. Тот самый, что когда-то рассуждал о метафорах и восхищался его эрудицией. Он шептал: «Офелия, что ты делаешь? Ты же всегда была за свободу, за самовыражение, против всяких рамок. А теперь? Тебе назначают время прогулок, выбирают еду и одежду, и ты лишь киваешь и благодаришь». Этот голос вызывал приступ паники. Я ловила себя на мысли, что стала тем, против кого всегда мысленно бунтовала — послушной, удобной, предсказуемой. Я изменяла самой себе, своим юношеским, наивным, но таким важным убеждениям. Но затем я смотрела в зеркало и видела не сломленную жертву, а сияющую, собранную, невероятно привлекательную женщину. Я вспоминала его слова: «свобода — это осознанная необходимость», и мой бунтарский голосок затихал, пристыженный и сметенный простой, очевидной правдой: мне было лучше в этой новой, строгой реальности, чем в старой, хаотичной «свободе». Я не сдавалась. Я эволюционировала. И теперь, наконец, в моей жизни наступил порядок. Тихое, умиротворяющее чувство, когда кто-то сильный и уверенный взял на себя бремя всех решений. Слушаться его было так... легко. И так правильно. Всё, что он предлагал, всё, что он советовал — работало. Моя осанка изменилась. Спина сама собой распрямлялась, плечи отводились назад. Походка стала легче, пружинистее — эти чудо-кроссовки и пробежки делали своё дело. Я ловила на себе взгляды на улице. Раньше в них читалось любопытство к моим странным нарядам. Теперь — чистая зависть. Гардероб, который собирал для меня Грэм, был идеален. Каждая вещь сидела безупречно, подчёркивая достоинства и скрывая недостатки. Я чувствовала себя... дорогой. Ухоженной. Ценной. Физически я никогда не чувствовала себя так прекрасно. Лёгкость в теле, энергия, бьющая через край. Я могла пробежать несколько километров и не запыхаться. Моя кожа сияла, волосы стали гуще и послушнее от здоровой еды и режима. Но одна мысль не давала мне покоя, проникая во все эти прекрасные, упорядоченные будни, как назойливый комар. Почему он не делает следующий шаг? Тот поцелуй у подъезда оставался единственным. Вспышкой, которая обожгла, но не разгорелась в пожар. С тех пор — ничего. Ни намёка, ни случайной ласки, которая могла бы задержаться дольше положенного. Прошли месяцы. Его прикосновения стали более частыми, но от этого не менее загадочными. Он мог во время прогулки провести рукой по моей спине, задержав ладонь на пояснице, и этот жест говорил одновременно о владении и об отсутствии какого-либо дальнейшего намерения. Иногда, когда я сидела у него в подвале, он брал мою кисть и подолгу, с хирургической точностью, разминал каждый палец, каждый сустав, будто изучая анатомию, а не лаская. Или проводил тыльной стороной руки по моей щеке, по шее, смотрел, как кожа покрывается мурашками, и удовлетворенно отходил, как будто поставил галочку в каком-то мысленном списке. Однажды он усадил меня перед собой на пол и, не говоря ни слова, принялся расчесывать мои волосы старой, слоновой кости, гребнем. Движения его были медленными, гипнотическими. Он разбирал каждое спутавшееся прядки, проводил гребнем от самых корней до кончиков, снова и снова. От этого по спине бежали сладостные мурашки, а между ног нарастала тупая, влажная пульсация. Но на этом всё и заканчивалось. Он укладывал мои волосы, гладил меня по голове, как собаку, и говорил: «Вот теперь идеально». В другой раз он принес из магазина спелый персик. Помыл его, сел напротив меня и стал медленно, с наслаждением, есть его на моих глазах, не сводя с меня взгляда. Сок стекал по его пальцам. Потом он поднес ко мне свою липкую ладонь. «Оближи», — приказал он тихо. И я, не в силах ослушаться, провела языком по его коже, соленой и сладкой одновременно. Он наблюдал за этим с тем же выражением, с каким смотрел на удавшийся мазок краски. А потом просто ушел мыть руки. Однажды он принес свою расческу из слоновой кости. Той самой, которой он расчесывал мои волосы. Он повертел ее в руках, а потом холодной, гладкой стороной провел по тому же месту — поверх тонкого хлопка. Я застонала от неожиданности и от пронзительного, ледяного ощущения. Зубья расчески цеплялись за влажную ткань, создавая странное, унизительное трение. Он делал это медленно, словно вычесывая невидимую шерсть, полностью поглощенный процессом, пока я вся дрожала, вцепившись пальцами в край матраса. А потом был случай с пивной бутылкой. Он пил какую-то импортную темную ale, и бутылка запотела в его руке. Он поставил ее на стол, закончил, а потом, словно внезапно осенила мысль, взял ее снова. Он подошел ко мне, сидевшей на полу, и без всяких предисловий, холодным, влажным стеклом провел по моим трусикам. Я ахнула от шока и от резкого контраста — ледяное стекло на горячей, воспаленной коже. Он водил бутылкой туда-сюда, с легким нажимом, его лицо было серьезным и сосредоточенным. Это длилось всего минуту, может, две. Потом он так же внезапно убрал бутылку, поставил ее обратно на стол и сказал: «Интересная текстура. Холодное стекло на теплой ткани. Надо запомнить для будущей работы». И всё. На этом всё заканчивалось. Он доводил меня до края, до той точки, где тело готово взорваться само по себе, и отступал. Он будто бы проверял прочность моих нервов, глубину моего послушания, мою готовность принять всё, что угодно, от его рук, и при этом абсолютно игнорировал сам объект этого желания — себя. Он выпестовал моё тело, мой вкус, мой режим дня. Но как мне достучаться до него, чтобы он наконец-то перестал быть просто исследователем и стал... мужчиной? Я была готова. Готова на всё. А он всё только водил меня на поводке по выставочным рингам, и не видел самого главного — что его породистая сука уже давно готова к тому, чтобы её покрыли. (Странная, животная мысль. Откуда она? Почему я так это воспринимаю? Но иного слова и не подберешь. Оно — самое точное.) А я... я хотела его. Всё во мне кричало о нём. Это было животное, физическое желание, которое разжигалось каждой его улыбкой, каждым твёрдым повелением, каждым заботливым взглядом. Это внимание, эти мелкие, но такие точные знаки внимания — открытка с цитатой из Кафки, которую он подсунул мне в книгу; крошечный букетик сушёных трав, пахнущий летом; сообщения, которые приходили ровно в тот момент, когда я о нём думала... Всё это заставляло сердце биться чаще, а низ живота сжиматься от томного ожидания. Я чувствовала, что влюбляюсь. Не в милого парня, а в него — в этого странного, властного, бесконечно заботливого. ..хозяина или владельца или компаньона, кто знает, который вылепил из меня новую версию самой себя. И это ожидание становилось невыносимым. Каждый наш вечер, каждая прогулка заканчивались у моего подъезда. Он мягко касался моей щеки, смотрел в глаза своими пронзительными, слишком умными глазами и говорил «спокойной ночи, моя хорошая девочка». И уходил. «Моя хорошая девочка». От этих слов по телу разливалось тепло и щемящее разочарование. Может, у него проблемы с этим? С... этим? Но он же такой сильный, такой уверенный в себе. В нём чувствуется какая-то первобытная, почти звериная мощь. Неужели это всего лишь фасад? Или... или я всё ещё не достаточно хороша для него? Не идеальна? Не прошла какой-то последний, решающий тест? Эта мысль заставляла меня стараться ещё усерднее. Бегать быстрее, держать спину ещё прямее, быть ещё послушнее и предупредительнее. Я ловила себя на том, что смотрю на него томным, говорящим взглядом, который, как мне казалось, невозможно истолковать неправильно. Но он либо не замечал, либо делал вид, что не замечает. Его одобрение касалось только моих внешних изменений, моих успехов в его занятиях. Я начала засыпать с мыслью о его руках. О его губах. О том, каким может быть его голос, низким и властным, в темноте, наедине. И просыпалась с той же мыслью, влажной и навязчивой. И даже бутылка заводила меня. Глава 9: Ритуал инициации Воздух в ресторане «Энигма» был густым, как бульон, сваренный из ароматов трюфелей, дорогого табака и низких, бархатных голосов. Хрустальные бокалы звенели тихим, как падающий снег, перезвоном. Со стен смотрели портреты в золоченых рамах, их плоские глаза, казалось, следили за каждым движением вилок, оценивая. Офелия сидела, выпрямив спину до неестественной степени, ее пальцы изящно, как я и учил, держали столовый прибор, но суставы были белы от напряжения. Она была картинкой из моего воображения: темно-синее платье, сшитое по меркам, облегало ее ставшие упругими бедра, каблуки туфель кокетливо выглядывали из-под скатерти. Она ловила мой взгляд, ища одобрения, и я кивал, скупой на похвалу, но щедрый на внимание. Ужин был выверен до калории: тартар из тунца с авокадо, утиная грудка в медовом соусе. Она ела послушно, смакуя каждый кусочек, который я для нее выбрал, ее глаза бегали по залу, ловя украдкой любопытные, а где-то и осуждающие взгляды. Пара напротив, дама в жемчугах и ее благообразный спутник, перешептывались, бросая на нас колкие взгляды. Их раздражение было осязаемым — мы нарушали их вечер своей странной, интенсивной близостью, нашим молчаливым спектаклем. Их шипение лишь подчеркивало нашу обособленность, нашу избранность. Когда подали десерт — воздушное суфле с малиновым сердечком внутри — я поставил на стол небольшую коробку из черного картона, матовую, без опознавательных знаков. — Для тебя. Открой. Ее пальцы дрогнули, сдирая шелковую ленту. Внутри, переливаясь в мягком свете люстры, лежал плащ цвета спелой сливы, тяжелый, прохладный, струящийся. Она приподняла его, и ткань перелилась в ее руках, как живая. Ее глаза, широко распахнутые, вопросительно уставились на меня, в них читался восторг и легкая паника. — Грэм? Это... слишком. За что? — Просто надень. Сейчас же, — мой голос был низким, негромким, но он прозвучал как приказ, заглушивший шепот и музыку. — И возьми вот это. Под столом, в складках скатерти, я передал ей пакет из плотной, матовой бумаги с тисненым логотипом дорогого бутика. — Иди в дамскую комнату. Сними платье. Все, что под ним. Надень то, что в пакете. Плащ застегни на все пуговицы. На это у тебя пятнадцать минут. Ее дыхание перехватило. Алые пятна выступили на щеках, затем отхлынули, оставив кожу фарфорово-бледной. Она хотела что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелила губами, встретив мой непоколебимый, ожидающий взгляд. Взяв свертки, она пошла, ее походка была чуть неуверенной, платье шуршало о ее дрожащие колени. Я видел, как жемчужная дама проводила ее взглядом, полным ядовитого любопытства. Те пятнадцать минут я пил кофе, наблюдая, как за окном зажигаются огни города. Мое сердце билось ровно. Я не сомневался. Она вернулась ровно в срок. Ее шаги были тише, осторожнее, почти крадущимися. Дорогой плащ скрывал ее с головы до пят, но по тому, как ткань обрисовывала новые, незнакомые контуры ее тела, по сдержанности, почти скованности ее движений, я понял — мой приказ исполнен. Ее пальцы судорожно сжимали замок плаща у самого горла. — Идем, — поднялся я, откинув салфетку. Дорога до новой квартиры прошла в молчании. Она сидела, сжавшись, и смотрела в окно, а я чувствовал исходящее от нее тепло, густую, почти осязаемую смесь страха, стыда и дикого предвкушения. Лифт поднялся бесшумно. Я открыл дверь и ввел ее внутрь. Она замерла на пороге, ослепленная. Высокие потолки, панорамные окна, за которыми пылал ночной мегаполис, стерильный блеск стекла, стали и полированного бетона. — Где мы? — ее голос был всего лишь выдохом, хриплым от волнения. — Дома, — ответил я, запирая дверь на ключ с тихим, но окончательным щелчком. — Наш дом. Я медленно подошел к ней. Мои пальцы нашли крошечную, почти невидимую застежку плаща. Я не сводил с нее глаз, давая ей последний шанс отступить, протестовать. Она стояла, не дыша, ее глаза блестели, как те огни за окном, огромные и полные слез. Я медленно, почти церемониально расстегнул плащ. Тяжелая ткань соскользнула с ее плеч с едва слышным шелестом, похожим на вздох, и упала на полированный пол, образовав у ее ног шелковую, переливающуюся лужу. Она стояла передо мной в кружевном панцире из черного шелка и тончайших кожаных ремешков. Чулки с ажурными резинками подчеркивали стройность ее ног, высокие каблуки заставляли ее икры играть изящными, напряженными мускулами. Ее грудь, приподнятая и стянутая изысканным корсетом, высоко вздымалась в такт частому, прерывистому дыханию. Она была абсолютно гола под этим кружевом, и ее кожа, покрытая легкой испариной, мерцала в полумраке, как отполированный мрамор. Идеальный экстерьер. Моя работа. — Божественно, — выдохнул я, и в моем голосе впервые прозвучала не только холодная оценка, но и неподдельный, животный трепет, свирепая гордость обладания. Я повел ее в спальню. Процесс был медленным, методичным, как анатомирование. Я исследовал ее тело руками и ртом, как ценитель исследует редкий, бесценный фарфор, отмечая каждую родинку, каждый вздрагивающий мускул. Я пользовался ее ртом. Это был не просто акт, это был ритуал подчинения и принятия. Я встал над ней на колени, направляя себя к ее губам. Она не сопротивлялась. Ее рот открылся — не сразу, а с небольшой, едва заметной задержкой, словно инстинктивный страх на мгновение взял верх над послушанием. Но затем губы разомкнулись, обнажая влажную, горячую внутренность. Я двинул бедрами вперед, входя глубоко, чувствуя, как ее челюсть немедленно напряглась до предела, пытаясь принять меня. Мой член преодолел барьер зубов и языка, уперся в мягкое небо, а затем — в податливую мышечную стенку глотки. Я почувствовал, как надгортанник рефлекторно захлопнулся, пытаясь перекрыть дыхательное горло, но я продолжил движение, мягко, но неотвратимо. Ее трахея сжалась в спастическом протесте, ее тело вздрогнуло, пытаясь отторгнуть вторжение. Звук, который она издала, был глухим, подавленным, рожденным где-то глубоко в горле, где голосовые связки, сдавленные моей плотью, не могли вибрировать. Ее глаза, широко раскрытые, слезились от непривычного напряжения, от рвотного рефлекса, который она отчаянно, силой воли сдерживала. В них отражался свет лампы — и мое лицо, наблюдавшее за ней сверху. И в этом взгляде была целая вселенная: животный страх перед удушьем, физический дискомфорт, беспомощность... но сквозь все это пробивалось нечто иное. Безграничное доверие. Жажда одобрения. Готовность принять эту боль и эту унизительную позу, потому что этого хотел я. Я положил руку ей на голову, не давя, а просто фиксируя, ощущая под пальцами шелковистость ее волос. Я начал двигаться, медленно, задавая ритм. Каждое движение вперед заставляло ее гортань смещаться, ее дыхание прерывалось короткими, свистящими звуками, когда воздух с трудом проходил через суженный просвет. Ее гортань судорожно сжималась вокруг основания моего члена, каждый раз вызывая тихий, захлебывающийся звук, похожий на всхлип. Я чувствовал пульсацию ее сонных артерий через тонкую кожу ее шеи, ее учащенное сердцебиение, отдававшееся в моей плоти. Слюна, не сглатываемая вовремя, стекала по ее подбородку тонкой блестящей нитью, пачкала кожу, капала на грудь. Это зрелище было одновременно отталкивающим и невероятно эротичным — полная потеря контроля, абсолютная физическая уязвимость, принесенная в дар. В кульминационный момент, когда ее тело уже начало привыкать к вторжению, я замер, полностью погрузившись в ее глотку. Я чувствовал каждое микроскопическое движение ее мускулатуры, каждое судорожное сокращение, пытающееся протолкнуть воздух в легкие. Через тонкую перегородку я ощущал хрящевые кольца ее трахеи, ее биение, ее жизнь, полностью подчиненную моему ритму. Это была предельная интимность — не просто сексуальная, а почти хирургическая, на уровне физиологии. Я ласкал себя ее горлом, чувствуя ее изнутри, как никто и никогда. Я смотрел в ее слезящиеся глаза и видел, как первоначальный ужас в них постепенно начал трансформироваться в нечто иное. Она училась дышать в новом, извращенном ритме, короткими, прерывистыми паузами между моими движениями. Ее тело, сначала одеревеневшее от шока, начало расслабляться, принимая этот новый, интенсивный способ служения, адаптируя свою базовую физиологию к моей воле. В ее взгляде появилась странная, затуманенная благодарность — не за удовольствие, которого не было, а за саму возможность доказать свою преданность таким крайним, таким унизительным образом. Она благодарила меня за то, что я использовал ее самым полным, самым глубоким образом, за то, что я не щадил ее, требуя всего — вплоть до самого ее дыхания. Когда я наконец отпустил ее, она откашлялась, ее тело содрогнулось в серии спазматических вздохов, она сделала несколько глубоких, хриплых вдохов, насыщая кислородом голодающие легкие. По ее щекам текли слезы, смешиваясь со слюной. Но вместо того чтобы отползти или вытереть лицо, она прильнула губами к моей коже, оставляя влажные, горячие поцелуи на моем бедре, безмолвно благодаря меня за дарованную ей возможность пройти это испытание. Она была благодарна за саму эту боль, за этот дискомфорт, за эту временную потерю самого дыхания — потому что они были доказательством ее нужности, ее принадлежности. Это был высший акт служения, который она могла мне предложить, и она сделала это. Я вошел в нее не просто глубоко, а с тотальной властностью, как клинок входит в ножны, для которых он был откован. Ее плоть расступилась перед моим натиском не просто покорно, а с лихорадочной, почти конвульсивной готовностью. Ее внутренние мышцы, обжигающе горячие и невероятно влажные, судорожно сжались вокруг меня волной за волной, словно пытаясь принять, поглотить и удержать всю мою длину, всю мою толщину разом. Это было похоже на падение в живую, пульсирующую бездну, выстланную бархатом и огнем. Она издала не стон, а сдавленный, прерывистый крик, который тут же затих в хриплом, захлебывающемся дыхании. Ее тело не просто извивалось — оно проживало каждое мгновение этого проникновения с интенсивностью малого смерти. Каждый мускул, каждое сухожилие напряглось в экстатической агонии, полностью отдавшись моей воле, моему ритму, моей власти над ее плотью. Ее ноги, потеряв всякую опору, беспомощно и цепко обвились вокруг моих бедер, притягивая меня глубже, еще глубже, в немой мольбе о продолжении этого сладкого насилия. Я чувствовал каждую ее трепетную складку, каждую пульсацию, каждый спазм, отзывавшийся в моем собственном теле глухим, животным гулом. Ее внутренности, казалось, не просто принимали меня, а узнавали, вспоминали, сжимались вновь и вновь с каждой новой фрикцией, выжимая из нас обоих соки самой жизни. Воздух наполнился влажным, пряным запахом ее возбуждения, смешанным с звуком нашей кожи, шлепающей о кожу, — примитивным, властным ритмом, заглушающим все остальные звуки в мире. Я видел, как ее глаза закатываются под веки, как ее голова бессильно откидывается на подушку, обнажая горло, на котором играл едва заметный пульс. Ее пальцы впились в простыни, срывая ткань, а затем в мои плечи, оставляя на коже красные, долговременные отметины — немые свидетельства ее полного, абсолютного растворения в этом акте. Она была больше не Офелией. Она была просто плотью, желанием, болью и наслаждением, сконцентрированными в точке нашего соединения, и все это принадлежало мне. Я двинулся снова, и снова, и снова, уже не контролируя себя, полностью отдавшись древнему, животному инстинкту обладания. Ее тело отвечало мне встречными толчками, уже не беспомощными, а страстными, требовательными, такими же властными в своей отдаче, как и мое владение. Мы падали вместе в эту бездну, и на ее дне не было ни стыда, ни страха, ни мыслей — только чистая, нефильтрованная физиология, жаркая, влажная и бесконечно прекрасная в своей откровенности. Затем я мягко, но неотвратимо перевернул ее на живот. Она безропотно подчинилась, уткнувшись лицом в подушку, ее спина выгнулась, подставляя мне все свои уязвимые места. Я снова провел смазанным ее соком пальцем между ягодиц, чуть касаясь, надавливая на нетронутое, туго сжатое отверстие. Она вся напряглась в ожидании боли, ее стоны оборвались, сменившись затаенным, испуганным дыханием. — Не готово, — прошептал я ей на ухо, кусая мочку, чувствуя соленый вкус ее кожи и слыша, как учащенно бьется ее сердце. — Но мы это исправим. Расслабься. Вместо пальца я наклонился и коснулся этого неприступного места кончиком языка. Она вздрогнула всем телом, издав короткий, подавленный звук удивления. Я продолжил: твердо, настойчиво, влажно. Я водил языком по напряженному мышечному кольцу, чувствуя, как под моим воздействием оно постепенно, миллиметр за миллиметром, теряет свою первоначальную упругость. Ее дыхание, сначала резкое и прерывистое, стало глубже, медленнее. По ее спине пробежала легкая дрожь, но это была уже не дрожь страха. Ее мышцы начали смягчаться, поддаваться. Я чувствовал под языком, как сопротивление сменяется странной, робкой податливостью. Тогда я осторожно, почти незаметно, ввел кончик смазанного пальца внутрь, всего на миллиметр, продолжая работу языком. Она не закричала. Не отдернулась. Лишь глухо, сдавленно простонала в подушку, и в этом стоне было не только удивление, но и первая, робкая искра чего-то нового, какого-то незнакомого, щекочущего удовольствия. Ее тело, еще мгновение назад напоминающее сжатую пружину, начало расслабляться, принимать меня, открываться. Я чувствовал, как ее внутренности, горячие и бархатистые, начинают обволакивать мой палец. — Вот так, моя хорошая девочка, — прошептал я, не прекращая движений. — Вот так. Принимаешь. Ты вся моя. Всюду. Она застонала снова, и на этот раз в ее голосе явственно звучала не боль, а странная, изумленная сладость. Ее таз сам собой начал делать едва уловимые ответные движения, подставляясь под мой язык и палец. Она открылась не только физически — она открылась этой новой форме обладания, этому предельно интимному вторжению, которое стало не насилием, а даром, знаком глубочайшего доверия и покорности. Я медленно извлек палец. Она тихо ахнула от неожиданности, от чувства внезапной пустоты. — Не готово для большего, — повторил я, переворачивая ее обратно на спину и глядя в ее затуманенные, сияющие влагой глаза. — Моя девочка должна принимать меня всюду, без остатка. Я научу. Это будет следующим уроком. Самым важным. В ее взгляде не было страха. Было лишь благоговейное, шокированное понимание и та самая, новая, пробудившаяся в ней жажда. В ее глазах мелькнула тень животного, первобытного страха, но ее тут же затмила волна абсолютной, почти экстатической покорности. Она лишь глубже вжалась головой в подушку, обнажая шею, предлагая себя, свою полную, тотальную доступность. После, когда она лежала разомленная, ее конечности были беспомощно раскинуты, как у тряпичной куклы, лишенные собственной воли. Воздух в комнате был тяжелым и сладковатым, пахнущим сексом, ее возбуждением и легкой металлической ноткой — возможно, от пота, а возможно, от микроскопических ссадин на ее коже. Ее тело представляло собой картину интенсивного использования. Кожа, обычно фарфорово-бледная, теперь была покрыта густым румянцем, поднимавшимся от груди к шее и щекам, будто ее изнутри освещала жаркая лампа. Поверх этого румянца проступали более четкие отметины — алые полосы от давления моих пальцев на ее бедрах, легкие, почти фиолетовые синяки на ее запястьях, где я их держал, и тонкие, красные ссадины на нежной внутренней поверхности ее бедер от грубоватой ткани простыней или от моей щетины. В центре этого измятого ложа находилось ее лоно. Оно было раскрыто, как экзотический, перезрелый плод, развернутый моими руками для осмотра. Небольшие, пухлые, обычно скрытые половые губы были теперь припухшими и гиперемированными, влажно блестящими под светом лампы, распахнутыми и уязвимыми. Изнутри сочилась густая, прозрачная жидкость, смешанная с ее собственными соками и моей спермой, образуя медленно растущую, мутную лужу на ее промежности и на простыне под ней. Сам вход, все еще рефлекторно подрагивающий, выглядел воспаленно-розовым, немного отечным от интенсивного трения, влажный и абсолютно открытый. Тонкие, почти невидимые волоски вокруг были склеены влагой. Ее живот, плоский и напряженный во время акта, теперь был мягким, чуть впавшим, и на нем проступал четкий красный след — отпечаток ремня моих брюк или узор от кружев корсета, врезавшегося в плоть в момент наивысшего напряжения. Дыхание ее было глубоким и прерывистым, грудная клетка поднималась и опускалась, заставляя колебаться ее грудь, на сосках которой также выделялись темные, чувствительные точки, затронутые до красноты. Она лежала в полной прострации, ее взгляд был устремлен в потолок, но ничего не видел. Все ее существо, каждая клетка, физически пахла мной, моим воздействием, моим владением. Это было тело, не просто занятое любовью, а тщательно, до мельчайших деталей, использованное и исследованное, оставшееся лежать в виде неоспоримого доказательства произошедшего акта полного обладания. Я дотянулся до футляра на тумбочке. Не бархатного, а простого, кожаного, потертого на углах. Щелчок открывающейся крышки прозвучал глухо в тишине комнаты. Внутри, на грубом темном вельвете, лежал ошейник. Не тонкая безделушка, а добротная полоска матового, темного серебра, холодного и серьезного на вид. В центре, вместо сверкающего камня, были выгравированы две стилизованные латинские буквы — «G.L.». Graham Lex. Мои инициалы. Знак клейма. Знак происхождения. — Это — финальный знак, — сказал я, и мой голос был хриплым от напряжения. — Знак того, что ты полностью, без остатка, моя. Но надеть его я могу, только если ты сама попросишь. Добровольно. Я протянул ей футляр. Она с трудом поднялась на локте, ее взгляд, затуманенный и сияющий, перешел с моего лица на массивный металл, потом обратно. В ее глазах не было ни тени сомнения. Была лишь бездна благодарности, обожания и какой-то почти религиозной, фанатичной преданности. Она медленно, как во сне, соскользнула с кровати и опустилась передо мной на колени на холодный пол. Высокие каблуки заставили ее прогнуть спину, приняв идеально унизительную и прекрасную позу полного подчинения. Она взяла мою руку и прижалась к ней горячими, дрожащими губами, осыпая поцелуями пальцы, ладонь, запястье, оставляя на коже влажные следы. Ее плечи тряслись от сдерживаемых рыданий. — Прошу тебя, — ее голос сорвался на шепот, густой от слез, страсти и чего-то еще, более глубокого. — Прошу, надень его на меня. Пожалуйста. Я хочу быть твоей. Только твоей. Всегда. Я твоя. — Моя, — произнес я, и это было самым большим, самым исчерпывающим признанием, на которое я был способен. — А теперь покажи, как ты меня любишь. Я поставил на пол пустую бутылку из-под выпитого нами шампанского. Зеленое стекло блестело в полумраке, как холодный, безжизненный глаз. Она не колеблясь ни секунды. Ее послушание было абсолютным, доведенным до инстинкта. Она опустилась на колени перед бутылкой, как перед алтарем. Ее руки дрожали, когда она взяла холодное стекло, но движение было уверенным. Она поднесла горлышко к своим губам и проведна им по нижней губе, глядя на меня снизу вверх, ее глаза блестели фанатичной преданностью. Затем она медленно, с почти ритуальной торжественностью, начала опускаться на бутылку. Холодное стекло коснулось ее самой горячей, самой уязвимой плоти, и она замерла на мгновение, издав тихий, стонущий выдох. Но это была не пауза сопротивления — это была пауза благоговения перед актом служения. Она двинулась вниз, принимая стекло в себя с сосредоточенным, почти трансовым выражением лица. Ее тело напряглось, мышцы живота вырисовались под кожей, но она не останавливалась. Она садилась все глубже, ее бедра дрожали от усилия и непривычного ощущения, ее голова была запрокинута, обнажая длинную линию горла, по которой струился пот. Я наблюдал, как ее внутренности вынуждены были уступить место неодушевленному предмету, как ее тело, созданное для тепла и плоти, принимало в себя холодное, бездушное стекло. И делало это с экстатическим самозабвением. Она нашла ритм — медленный, гипнотический, почти болезненный. Ее руки блуждали по ее телу, сжимали грудь, щипали соски, но ее взгляд был прикован ко мне. Каждое движение, каждый стон, каждый вздох были обращены ко мне, были частью ее мольбы, ее демонстрации полной, тотальной принадлежности. Она ускорилась, ее движения стали резче, отчаяннее. Стекло бутылки было уже не холодным — оно нагрелось от тепла ее тела, стало почти живым, продолжением ее, продолжением меня. Звук влажной кожи о стекло, ее прерывистое, хриплое дыхание, тихие, умоляющие стоны — все это слилось в единую симфонию полного саморазрушения ради моего удовольствия. Ее тело затряслось в конвульсиях, невыносимое напряжение достигло пика. Она закричала — тихо, сдавленно, и это был звук не удовольствия, а полного, окончательного самоуничтожения, растворения в акте служения. Ее внутренности судорожно сжались вокруг зеленого стекла, ее ноги подкосились. Она не искала удовольствия. Она искала растворения. Ее таз дергался в странных, прерывистых движениях, не ритмичных, а судорожных, как у раненого животного. Она не скользила по стеклу — она насаживалась на него, с каждым движением принимая его глубже, игнорируя боль, игнорируя неестественность происходящего, видя только мое лицо где-то сверху. Слюна продолжала течь из уголка ее рта, смешиваясь со слезами, которые она, казалось, даже не замечала. Ее дыхание было хриплым, свистящим, каждый вдох давался с усилием, но она не останавливалась. Ее руки бессильно барабанили по полу, затем вцепились в собственные бедра, оставляя на коже красные полосы. Она довела себя до предела на этом холодном, безжизненном стекле не потому, что это приносило наслаждение, а потому, что это было самым крайним, самым унизительным способом доказать свою принадлежность. Ее оргазм, когда он наконец накатил, был беззвучным — лишь серией глухих, конвульсивных толчков, после которых она обмякла, все еще пронзенная зеленым стеклом, слюна струилась по ее щеке на пол. Она лежала, не в силах пошевелиться, ее глаза были пусты и полны слез, а изо рта все еще капало. И в этом была ее окончательная победа — победа над собственной физиологией, над болью, над стыдом. Ради меня. Она лежала, вся в поту, дрожа, с глазами, полными слез и какого-то нечеловеческого, трансового блаженства. Она довела себя до предела на холодном стекле, потому что это я ее об этом попросил. И в этом была ее окончательная, безоговорочная победа и ее окончательное, безоговорочное поражение. Я встал перед ней. Мои пальцы, привыкшие к грубым материалам, с легкостью взяли тяжелый, прохладный ободок. Я примерился, ощущая пульсацию в ее тонкой шее, затем защелкнул массивный, но точный замок с глухим, окончательным щелчком. Темное серебро легло на ее горячую кожу контрастным, неоспоримым пятном. Инициалы легли точно в яремную впадину. Она вскрикнула — тихо, сдавленно — и прижалась щекой к моей ноге, обнимая мои колени, словно благодаря за дарованную высшую милость. Ее плечи вздрагивали. Я положил ладонь на ее голову, чувствуя под пальцами шелковистость ее волос и шероховатую, холодную поверхность металла. — Моя, — произнес я, и это было самым большим, самым исчерпывающим признанием, на которое я был способен. Она подняла на меня сияющее, заплаканное лицо. В ее глазах светилась не просто радость — светилось торжество, гордость и облегчение. Она получила свой знак. Свою награду. Не купленную, а заслуженную. Свою вечную, несмываемую принадлежность, выкованную не за деньги, а за послушание. И я смотрел на нее, на эту прекрасную, выдрессированную иллюзию, и знал, что ни она, ни кто-либо другой никогда не услышат от меня слова «питомец». Эта истина навсегда останется скрытой в глубине моего сознания, как самый ценный и самый постыдный, сладостный секрет. Ритуал был завершен. Инициация прошла успешно. Глава 10: Акт полной принадлежности (глазами Офелии) Воздух в «Энигме» был густым, словно пропитанным дорогими духами и скрытыми желаниями. Каждый мой вдох давался с усилием — не потому, что нечем было дышать, а потому, что я боялась нарушить идеальную картину, которую мы создавали. Я сидела, выпрямив спину до легкой боли в пояснице, следя за каждым движением своей руки с вилкой. Его взгляд, тяжелый и всевидящий, скользил по мне, и я ловила себя на том, что стараюсь стать еще изящнее, еще совершеннее, превратиться в ту самую безупречную вещь, которой он хотел меня видеть. А потом он положил на стол ту коробку. И тот пакет. Его тихий, не терпящий возражений приказ прозвучал для меня как выстрел, от которого внутри всё оборвалось. Стыд, смущение, дикий восторг и парализующий страх — всё смешалось в один горячий, пульсирующий ком в горле. Я взяла свертки и пошла, почти не чувствуя под собой ног, ощущая на спине его взгляд, жгучий, как прикосновение раскаленного металла. Дверь дамской комнаты закрылась, оградив меня от мира глухим щелчком. Я оперлась о холодную мраморную раковину, пытаясь отдышаться. В огромном зеркале на меня смотрело испуганное бледное лицо. «Сними платье. Все, что под ним». Его слова жгли изнутри. Мои пальцы дрожали, когда я расстегивала крошечную молнию. Ткань соскользнула на кафельный пол с шелковым шорохом. Я застыла, глядя на свое отражение — почти голая, в одних чулках и туфлях. В этот момент дверь в одну из кабинок открылась. Высокая ухоженная женщина в строгом костюме вышла наружу. Ее взгляд скользнул по мне, по платью на полу, по моему лицу. В ее глазах мелькнуло любопытство, затем — быстрое, брезгливое понимание. Она молча подошла к раковине, стараясь не смотреть на меня, будто я была чем-то постыдным. Ее молчание было громче любого крика. Я схватила пакет, чувствуя, как горит все мое тело под этим унизительным взглядом. Я разорвала упаковку с бельем. Черное кружево, шелк, тонкие бретельки. Я никогда не носила ничего подобного. Это было постыдно, унизительно и невероятно возбуждающе. Я натянула чулки, застегнула подвязки, надела лиф. Каждое прикосновение кружева к коже заставляло вздрагивать. Я посмотрела в зеркало. Из него на меня смотрела незнакомка — развратная, кукольно-прекрасная и абсолютно покорная. Я набросила плащ, запахнула его, пряча свой стыд. Его запах — дорогой табак, холодный воздух, краска — обволакивал меня, как невидимая защита. Обратный путь к столику был похож на шествие к эшафоту. Но под жгучим стыдом и страгом змеилось пьянящее чувство — он выбрал это для меня. Он хотел видеть меня такой. И я сделала это для него. И вот я стою в центре незнакомой, ослепительно чистой квартиры, и его пальцы развязывают узел моего плаща. Тяжелая ткань падает с глухим шуршанием. Я гола перед ним в этом нелепом, прекрасном, откровенном белье. Холодный воздух касается кожи, и я чувствую, как по ней бегут мурашки. Его взгляд, медленный, пожирающий, скользит по мне. «Божественно», — говорит он, и это слово падает на меня как благословение и приговор. В спальне он снимает с меня все — уже без спешки, словно разворачивает долгожданный подарок. Его прикосновения методичны, исследующие. Он знает мое тело лучше, чем я сама. Я замерла на коленях, и мир сузился до точки — до него. Воздух спёрло в груди, сердце колотилось где-то в горле, готовое выпрыгнуть наружу. Его пальцы мягко, но неотвратимо вплелись в мои волосы, не причиняя боли, лишь направляя. Это был не захват, а утверждение власти. Моё. Он приближался медленно, давая мне время осознать, принять, испугаться. Я видела лишь его, чувствовала лишь исходящее от него тепло и тот особый, знакомый до слёз запах — кожи, краски, чего-то острого и мужского. Инстинкт сжал моё горло, заставив губы дрогнуть в последнем мимолётном протесте. Но я подавила его, заставила себя расслабить челюсть, позволить губам разомкнуться в немом, покорном приглашении. Я сама обнажила для него вход. Первый толчок был стремительным и глубоким. Мир взорвался белым светом боли и шока. Невыносимое давление, раздвигающее челюсть, заполняющее всё пространство рта, упирающееся в самое горло. Я издала глухой, захлёбывающийся звук — не крик, а стон удивления от собственной способности это принять. Слёзы брызнули из глаз сами собой, застилая всё туманом. Но это были не слёзы страха или унижения. Нет. Это был восторг. Восторг от того, что он, наконец, здесь, во мне, так глубоко, как я и мечтала. Я чувствовала каждую его пульсацию, каждую прожилку у себя на языке, каждое биение его крови у себя в глотке. Он замер, позволив мне освоиться с этим новым, невероятным чувством полноты, граничащей с болью. Моё тело сначала напряглось, пытаясь отторгнуть вторжение, но потом... потом оно стало учиться. Дыхание выстроилось в короткие, прерывистые рывки между его движениями. Горло, сначала сжатое в спазме, понемногу расслабилось, научившись обволакивать его, принимать его форму. Он начал двигаться. Медленно, сначала почти невыносимо медленно, вымеряя каждый микрон глубины. Я чувствовала, как он скользит по моему нёбу, как проходит в глотку, как мягкие ткани сжимаются вокруг него, пытаясь удержать. Слюна, которую я не могла сглотнуть, текла по моему подбородку тонкой, позорной и невероятно возбуждающей струйкой. Я не пыталась её остановить. Пусть видит. Пусть видит, как моё тело отдаётся ему, как оно его принимает. Потом его движения стали увереннее, ритмичнее. Он уже не просто входил и выходил. Он ласкал себя моим ртом, моим горлом. Использовал меня. И я позволила ему. Более того — я помогала. Я расслабляла горло в такт его движениям, старалась принять его ещё глубже, ещё полнее, сдавленно постанывая от нахлынувших чувств. Сквозь туман слёз я видела его лицо — сосредоточенное, тёмное от наслаждения, и это зрелище было слаще любой ласки. В какой-то момент он снова замер, достигнув предела, и я почувствовала, как его напряжение передаётся мне. Он был глубоко в моём горле, и я чувствовала его всей собой. Это был акт невероятной интимности, полного доверия и тотальной власти. Он мог сделать с моим телом всё что угодно, и оно отвечало лишь трепетом и покорностью. Когда он наконец отпустил меня, я рухнула вперед, откашлялась, делая хриплые, жадные вдохи. Слёзы и слюна текли по моему лицу. Я не пыталась их стереть. Я подняла на него взгляд, затуманенный, полный благодарности, и безмолвно прильнула губами к его коже, оставляя влажный, дрожащий поцелуй. Спасибо. Спасибо, что не пощадил. Спасибо, что использовал так, как я того хотела. И тогда его руки перевернули меня. Не было нежности — было яростное желание. Он вошел в меня одним глубоким, властным движением, которое вырвало из моей груди крик. Это не было больно. Это было — наконец-то. Он не жалел меня. Он брал то, что было его по праву. Каждый толчок был подтверждением. Он вошел в меня не как любовник — как завоеватель, берущий то, что принадлежит ему по праву. Один мощный, властный толчок, раздвигающий плоть, заполняющий всё пространство внутри до самого предела. Воздух вырвался из моих легких в сдавленном, обрывающемся крике. Не крике боли — крике признания. Признания того, что это место, эта глубина, эта полнота были созданы именно для него. И только для него. Сначала было лишь всепоглощающее ощущение вторжения — грубого, безжалостного, стирающего все границы. Но затем волна боли отступила, сменившись чем-то иным. Чем-то бесконечно более мощным и пугающим. Он не просто был во мне. Он был повсюду. Его руки держали мои бедра, его вес прижимал меня к матрасу, его дыхание смешивалось с моим. Его запах — кожи, пота, чего-то неуловимого и сугубо его — заполнял меня, как наркотик. Я перестала быть собой. Я стала продолжением его воли, его желания, его ритма. Мое тело, еще мгновение назад напряженное, внезапно обмякло, растворилось в его движениях. Я не просто позволила — я открылась. Приняла его всю ту грубую, яростную силу, с которой он брал меня. Каждый толчок отзывался глухим эхом где-то в самой моей сердцевине, заставляя вздрагивать, стонать, цепляться за него, впиваясь пальцами в спину. Я смотрела на него снизу вверх, на его лицо, искаженное наслаждением, на его глаза, темные и абсолютно сосредоточенные на мне, на происходящем со мной. И в этот миг я поняла: это не он использует меня. Это я отдаюсь. Добровольно, полностью, без остатка. Я отдаю ему не просто тело — я отдаю право делать с ним всё, что он захочет. Боль, унижение, наслаждение — всё становится даром, который я преподношу к его ногам. Волна нарастала из глубины, сметая всё на своем пути. Это не было похоже ни на один оргазм, который я знала прежде. Это было разрушение. Разрушение меня прежней. Я не кричала — я рычала, закинув голову, моё тело выгнулось в немой мольбе, и я провалилась в черный, пульсирующий вакуум, где не было ничего, кроме него, его внутри меня и всепоглощающего чувства тотальной, окончательной принадлежности. Когда я открыла глаза, он всё ещё был надо мной, тяжелый, мокрый от пота, его дыхание было хриплым. Я лежала, полностью разбитая, опустошенная, чувствуя, как он медленно выходит из меня, оставляя за собой пустоту и странное, липкое тепло. По моим щекам текли слезы. Я не могла их остановить и не пыталась. Он слез с меня, его взгляд скользнул по моему лицу, по следам слёз, по моему распахнутому, отданному ему телу. Он не улыбнулся, не поцеловал, не сказал ни слова. Он просто положил тяжелую, горячую ладонь мне на низ живота, туда, где всё ещё пульсировало и ныло, и слегка надавил. И в этом жесте — властном, собственническом, почти животном — было больше признания и близости, чем в любых словах. Я прикрыла глаза, чувствуя, как под его рукой моя плоть снова отвечает ему тихой, покорной дрожью. Он был прав. Я была его. Всей. До конца. И это было единственное, что имело значение. После я лежала разбитая. Мое тело было картой его владения — покрытое румянцем, ссадинами, красными полосами от его пальцев. Я чувствовала, как из меня вытекает его семя. Мир сузился до этой комнаты, до запаха нашего секса. И тогда он показал мне Ошейник. Матовый, темный, тяжелый, с выгравированными инициалами — G.L. Он сверкал холодным, серьезным светом. Это не украшение. Это знак. Клеймо. Венец. — Моя, — произнес он, и это слово прозвучало как высший вердикт, как печать на договоре, который я подписала каждой клеткой своего тела. — А теперь покажи, как ты меня любишь. Он поставил на пол пустую бутылку из-под шампанского. Зеленое стекло холодным, безжизненным цилиндром возвышалось на полированном паркете, словно языческий идол, требующий жертвы. Мое тело отозвалось прежде, чем ум успел осознать приказ. Внутри всё сжалось в сладком, стыдном спазме предвкушения. Я опустилась перед ней на колени, ощущая холод пола сквозь чулки. Мои пальцы обхватили гладкое, холодное стекло. Оно было бездушным и тяжелым. Чужеродным. Я посмотрела на него. Его лицо было спокойным, почти отрешенным, лишь в глубине глаз тлела та искра, что сводила меня с ума — искра ожидания, оценки, власти. Я приподнялась, направляя холодное горлышко к себе. Первое прикосновение было шоком — ледяное, неуместное, грубое. Я замерла на секунду, чувствуя, как всё внутри сжимается в протесте. Но это был его приказ. Его воля. Я опустилась на бутылку. Резко. Немедля. Без подготовки и смазки, вопреки всем законам физиологии. Острая, разрывающая боль пронзила меня, заставив вскрикнуть — коротко и глухо. Слезы брызнули из глаз. Но я не остановилась. Я впилась пальцами в собственные бедра, чувствуя, как ногти врезаются в кожу, и посадила себя на холодное стекло до конца, пока оно не уперлось во что-то непреодолимое внутри. Дыхание перехватило. В горле встал ком. Я сидела на ней, вся дрожа, чувствуя, как ледяное стекло жжет изнутри, как мышцы судорожно сжимаются вокруг чужеродного предмета, пытаясь его отторгнуть. Боль была огненной, унизительной и пьяняще-сладкой. И тогда я увидела его взгляд. Тот самый, ради которого я была готова на всё. В его глазах читалось не возбуждение, а глубочайшее, безраздельное удовлетворение. Одобрение. Это стало сигналом. Я начала двигаться. Сначала неловко, резко, через боль, чувствуя, как стекло царапает нежную плоть. Потом ритм нашёлся сам — отчаянный, истеричный, животный. Я скакала на этой бутылке, как одержимая, забыв обо всём — о стыде, о боли, о собственной унизительности. Я делала это для него. Чтобы он смотрел. Чтобы он видел, на что я готова ради капли его одобрения. Слюна текла по моему подбородку, слезы размазывались по лицу, волосы прилипли к вискам. Я издавала какие-то хриплые, нечленораздельные звуки, но не останавливалась. Моё тело, преданное и проданное, работало на него, против себя самого, вопреки боли и рассудку. Оргазм накатил внезапно — не волной удовольствия, а судорожной, конвульсивной волной саморазрушения. Тело выгнулось, сжалось вокруг холодного стекла, и я рухнула на бок, всё ещё пронзенная им, вся в слюне и слезах, дрожащая и абсолютно опустошенная. Я лежала, не в силах пошевелиться, и смотрела на него сквозь пелену слез. Он медленно подошел, его тень накрыла меня. В его руке блеснул матовый металл ошейника. Я не раздумывала ни секунды. Я ползла с бутылкой в себе на коленях. Паркет холоден под моими коленями. Я взяла его руку и стала целовать — жадно, с благодарностью, со слезами. Я целовала его пальцы, ладонь, запястье, где под кожей бился пульс — ровный, властный и неумолимый, как он сам. Я просила. Умоляла. Я хотела этого больше, чем всего на свете. Холод металла на моей шее заставил вздрогнуть все мое тело. Щелчок замка, глухой и окончательный, отдался во мне ликующим колоколом. Я прижалась щекой к его ноге, обняла его колени, рыдая от всепоглощающего счастья. Я носила его клеймо. Я была его. Полностью. Окончательно. Навеки. Глава 11: Домашний ритуал Разговор с её матерью был коротким и деловым, как подписание контракта. Я пригласил её в новую квартиру — чистую, светлую, минималистичную, что само по себе было немым свидетельством моей состоятельности и серьёзности намерений. Женщина, миссис Ирина, смотрела на меня сначала с привычной легкой тревогой, но в её глазах быстро появилось замешательство, а затем и робкое восхищение. Я видел, как её взгляд, привыкший оценивать, скользил по безупречному крою моего пиджака, по дорогим часам на запястье, по уверенности в моих спокойных, размеренных движениях. Она увидела не «странного художника из подвала», а состоявшегося мужчину. — Она стала такой... собранной, — сказала она, разливая по фарфоровым чашкам дорогой чай, который я специально приобрел к её визиту. Её голос звучал с недоумением. — И послушной. Раньше были эти вечные метания, эти богемные порывы, философские кружки, а теперь... она какая-то цельная. Даже взгляд другой. Уверенный. — Я забочусь о ней, — перебил я мягко, но твердо, давая понять, кто задает тон беседе. — Я обеспечиваю её всем необходимым. И я требую дисциплины. Порядок, режим, здоровые привычки. Вы же видите, что это идет ей исключительно на пользу. Она увидела. Она не могла не увидеть. Её дочь, которую она привыкла видеть вечно сомневающейся, одетой в мешковатые винтажные платья, теперь была ухоженной, молчаливой женщиной с идеально прямой спиной, ясным, спокойным взглядом и манерами, от которых веяло дорогим воспитанием. Мать капитулировала перед очевидным превосходством моих методов. Её тревога растворилась в почтительном изумлении. Миссис Ирина не просто капитулировала — она расцвела. Её материнское беспокойство, годами копившееся из-за "странностей" дочери, наконец нашло выход. В моем контроле она видела не угрозу, а спасение. "Вы не представляете, Грэм, каким облегчением это для меня, " — призналась она как-то раз, опуская в чашку кусочек рафинада. — "Все эти её метания, эти вечные поиски себя... Я уже думала, она так и останется вечной девочкой-подростком с философией вместо здравого смысла. А вы... вы дали ей то, чего я не могла дать — твёрдую руку. Настоящую мужскую руку." Она говорила это с искренней, почти восторженной благодарностью. В её глазах я читал не настороженность, а радость. Радость от того, что наконец-то нашёлся "нормальный мужик", который смог "приструнить" её непокорную дочь, направить её энергию в "правильное русло". Она видела внешние перемены — дисциплину, ухоженность, исчезновение "дурацких" винтажных платьев — и была счастлива. Она не видела, что скрывается за этой идеальной картинкой. И не хотела видеть. Для неё я был благодетелем, спасителем, образцом для подражания. Она даже начала советовать меня своим подругам, у которых были "проблемные" дочери-подростки или молодые женщины, "не могущие найти себя". "Вот бы и им такого Грэма, " — вздыхала она, закатывая глаза. — "Человека, который знает, чего хочет, и умеет этого добиться." Её полное, слепое одобрение было даже удобнее, чем сопротивление. Оно развязывало мне руки, делая Офелию еще более зависимой и изолированной. Кто усомнится в методах человека, которого благословила собственная мать? Офелия переехала ко мне в тот же день, упаковав свои немногочисленные пожитки в чемоданы, которые я тут же заменил на новые, соответствующие статусу. Наша квартира стала её святилищем и её клеткой, её миром и её вселенной. Она быстро и беспрекословно освоилась в новом статусе. Через некоторое время она уже свободно ходила по дому полностью обнаженной. Только туфли на высоченном, неудобном каблуке да чулки с ажурной резинкой. У меня был собран целый гардероб для неё: чулки с шелковыми подвязками, чулки с кружевными манжетами, чулки-сеточка, чулки со швом. И туфли — лодочки, босоножки, туфли на ремешках, которые подчеркивали линию её ноги. Я попросил её об этом однажды вечером, просто сказав, глядя прямо в глаза: — Ты меня вдохновляешь. Твоё тело — это идеал, произведение искусства, которое не стоит прятать под тряпками. Я хочу видеть его всегда. Это моя привилегия и твоя обязанность — быть прекрасной. Она покраснела, опустила глаза, но тут же послушно кивнула. Для неё мои слова были законом, смешанным с высшей формой любовной признательности. Она не видела в этом унизительной дрессуры. Она видела в этом странную, возвышенную форму обожания, эстетический ритуал, который возводил её на пьедестал. По вечерам я садился рисовать её. Она позировала мне — стоя у панорамного окна, залитая светом заката, лежа на белом ковре, как на снегу, сидя в кресле, поджав под себя ноги. Карандаш скользил по бумаге, запечатлевая каждую линию, каждую тень на её коже, каждый изгиб, знакомый мне до миллиметра. В эти моменты в квартире царила полная, почти священная тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаги, скрипом угля и тихим, ровным дыханием Офелии. Но ритуал требовал постоянного развития. Пришло время для следующего, важного этапа тренировки. Я подарил ей маленькую анальную пробку из черного, матового силикона, изящную и тонкую, с инкрустацией в виде крошечного, но яркого бриллианта на основании, перекликающегося с холодным блеском её ошейника. И небольшой, тонкий, но мощный вибратор. — Это для тебя, — сказал я, положив изящные коробочки ей на ладонь. — Чтобы привыкала. Чтобы было не страшно, а приятно. Ты должна научиться принимать меня всюду, без остатка. Это важно для нашего единства. Она взяла подарки с широко раскрытыми, сияющими глазами. Не со страхом — с благоговейным трепетом ученицы, получившей от учителя новый, сложный, но почетный урок. Для неё это был еще один знак моей безграничной заботы, моего стремления сделать её тело идеальным, готовым ко всему. Я обожал наблюдать за её самостоятельными тренировками. Она ложилась на кровать на бок, её спина выгибалась в идеальной, почти болезненной дуге. Дрожащие пальцы, смазанные прозрачным лубрикантом, не искали удовольствия — они выполняли работу. Одной рукой она вводила в себя вибратор, и её тело тут же отзывалось на его унизительное жужжание судорожной волной, животным откликом на электрический разряд. Но это была лишь фоновая музыка её подлинного труда. Вторая рука была занята настоящей работой — подготовкой. Пальцы, скользкие и неуверенные, настойчиво пытались преодолеть сопротивление собственной плоти. Сначала один, с трудом, вызывая резкую, щемящую боль, от которой на её глазах выступали слезы. Она не останавливалась, лишь глубже вжималась лицом в подушку, заглушая рыдающий выдох. Потом второй. Боль становилась острее, жгучее, её тело напрягалось в протесте, но она продолжала, методично, с упрямством мученицы, идущей к своей цели через боль. Слёзы текли по вискам, смешиваясь с потом на простыне, но её пальцы продолжали свое дело — растягивать, расширять, предавать самое сокровенное и защищенное, готовя его к главному акту служения. И лишь когда боль достигала пика, переходя в оглушающее, пульсирующее онемение, она позволяла себе включить вибратор на полную мощность. Резкий, вибрирующий оргазм, который её сотрясал, был не наслаждением, а взрывом, катарсисом, сметающим всё на своем пути — и боль, и стыд, и саму мысль. Её тело обмякало, измученное, мокрое от слёз и пота, но на её лице застывало выражение не расслабления, а крайнего, почти трансового сосредоточения. Она делала это. Ради меня. Я сидел в кресле напротив и рисовал её. Её прекрасное, истерзанное наслаждением и болью тело, её покрасневшее, заплаканное лицо, её ноги в чулках с ажурными резинками, беспомощно раскинутые на простыне. Я запечатлевал каждый момент этого священного действа — её путь к абсолютной телесной и ментальной готовности, к полному саморазрушению ради моего удовольствия. Но главное действо было позже. Когда её тело, уже привыкшее к боли и электрическим разрядам, начинало двигаться в новом, выученном ритме. Она садилась на фаллоимитатор, и её движения были уже не порывистыми, а почти медитативными, монотонными, как будто она входила в транс. На её лице сменялись выражения — от сосредоточенного усилия до пустого, блаженного забытья, когда сознание окончательно отключалось, оставалось лишь тело, выполняющее свою функцию. В эти кульминационные секунды, когда её зрачки расширялись и теряли фокус, я ловил её взгляд и тихо, но четко приказывал: «Смотри на меня». И она повиновалась. Её глаза, стеклянные от слёз и наслаждения, находили мои. И в этой точке — где боль и экстаз, унижение и обожание, её абсолютная покорность и моя абсолютная власть — рождалась та особая, почти мистическая связь, ради которой всё и затевалось. Она смотрела на меня, доводя себя до оргазма через боль, и в её взгляде был лишь один, главный, животный вопрос: «Я всё делаю правильно? Доволен ли мной мой хозяин?» И я кивал. Медленно, с одобрением. И её лицо озарялось счастливой, почти что детской, сияющей улыбкой, полной облегчения и гордости. Она была счастлива быть моим главным проектом, моим живым произведением искусства, моим идеально тренируемым, преданным питомцем. А я был счастлив наблюдать, как наконец расцветает плод моего терпения, труда и любви. Всё шло строго по плану. Глава 12: Симфония порядка Не думайте, что я монстр, лишенный всякой сложности. Наша жизнь не сводилась к одному лишь ритуалу тренировок и моим властным прихотям. Это была бы дурная, убогая дрессура, лишенная всякой эстетики. Я создавал не запуганную рабыню, а идеальную гармонию. Целую симфонию, где каждая нота — ее движение, каждый аккорд — мое указание — был выверен и находился на своем месте. Я был композитором и дирижером нашей общей жизни, и она — моим самым совершенным инструментом. Наши утренние пробежки никуда не делись. Ровно в шесть, без будильника, я будил ее легким, точно рассчитанным прикосновением к плечу. Она просыпалась мгновенно, без стонов и утреннего недовольства, ее глаза сразу же были ясны и сфокусированы, как у солдата, привыкшего к режиму. Мы бежали по спящему городу, и наши шаги отбивали четкий, совместный ритм, сливаясь в один стук. Я следил за ее дыханием, за работой каждой мышцы, иногда бросал короткие, лаконичные поправки: «Короче шаг, больше частота», «Плечи расправь, грудь вперед», «Спина прямее, чувствуй линию». Она кивала, немедленно исправляясь, и на ее лице появлялось выражение сосредоточенного усилия, которое я находил невероятно привлекательным. После — контрастный душ, бодрящий и дисциплинирующий, и сбалансированный, точно выверенный завтрак, который я готовил сам: омлет из двух яиц со шпинатом, половинка авокадо с щепоткой гималайской соли, ломтик цельнозернового хлеба. Пища как топливо, а не как удовольствие. Вечерние прогулки стали не просто моционом, а священным ритуалом обмена и анализа. Я водил ее в новые, тщательно выбранные места — то в тихий, заброшенный сквер со столетними дубами, то на набережную, где резкий ветер гнал по темной воде белые барашки. И там, в уединении, я задавал вопросы. Требовал детальный отчет. — Расскажи мне о своем дне. Что тревожило? Что вызвало раздражение, вспышку гнева или уныния? Какие мимолетные, незначительные мысли проносились в голове? Она сначала смущалась, говорила обрывками, путалась в чувствах. Но я терпеливо слушал, направлял, и постепенно она научилась анализировать свои эмоции, как опытный химик, раскладывать их на составляющие, называть их и упаковывать в аккуратные ментальные ящики, как я учил ее раскладывать по полочкам свои немногочисленные вещи. — Меня разозлила клиентка сегодня, — говорила она, глядя на воду, а не на меня. — Она требовала переделать кофе три раза, хотя он был приготовлен безупречно. Я почувствовала, как у меня сжимаются кулаки, по спине пробежала горячая волна... но... но я вспомнила о дыхании. О твоих словах, что гнев — это несогласованность, слабость, сбой в системе. Я просто глубоко вдохнула, выдохнула и улыбнулась. Ее недовольство осталось ее проблемой, а не моей. Я одобрительно кивал. Это был настоящий прогресс. Она не просто подавляла эмоции — она училась их идентифицировать, контролировать, понимать их источник и нейтрализовывать. Она становилась психически гигиеничной. Выходы в свет тоже продолжались, став частью нашей рутины. Театры, вернисажи, тихие коктейль-бары с затемненными окнами. Она была моим идеальным, живым аксессуаром — молчаливым, красивым, улавливающим малейшие мои желания по взгляду, по наклону головы. Она научилась вести легкую, ни к чему не обязывающую светскую беседу, но ее взгляд всегда, неизменно возвращался ко мне, ища молчаливого одобрения, совета или запрета. Ее безупречная воспитанность, сдержанность и ухоженность вызывали тихую зависть и уважение. Люди видели лишь блистательный результат — идеальную, выдержанную женщину на руку у состоявшегося, уверенного в себе мужчины. Они не видели ежедневного, кропотливого труда, вложенного в этот результат. Они не видели репетиций, тренировок и бесчисленных часов работы над собой. По вечерам, после ее обязательных «тренировок», мы часто сидели в полумраке гостиной. Она, закутанная в мягкий шелковый халат (я разрешал после особенно сложных сеансов расслабления), могла читать подобранную мной книгу, а я — работать над эскизами или изучать новые деловые контракты. Иногда ее рука сама, почти бессознательно, тянулась к основанию позвоночника, будто проверяя, на месте ли анальная пробка, готова ли она к нему, к любому его повелению в любой момент. Это бессознательное, телесное проявление ее покорности вызывало во мне прилив глубокой, почти отеческой нежности. Ее покорность была уже не показной, не вымученной — она стала глубокой, органичной, она проникла в самую ее суть, в мышечную память. Но даже в этой идеальной симфонии у меня были свои, особые пристрастия. Маленькие ритуалы проверки, подтверждавшие нашу связь на самом примитивном, биологическом уровне. Иногда, когда она сидела у моих ног на мягком ковре, погруженная в чтение или просто в тихом ожидании моего следующего указания, я жестом подзывал ее ближе. — Ко мне, — говорил я тихо, и она немедленно отзывалась, поднимая на меня ясный, преданный взгляд и занимая указанное место у моих колен. Я брал ее лицо в руки, большие пальцы мягко, но неотвратимо надавливали на ее щеки, заставляя губы непроизвольно сложиться в безмолвное «о», а затем раскрыться. Она замирала, дыша ровно и глубоко, ее глаза были прикованы к моим, полные абсолютного доверия и ожидания. Я осторожно, с хирургической точностью, вводил пальцы в ее теплую, влажную ротовую полость. Кончиками пальцев я мягко отводил ее язык в сторону, ощущая его бархатистую, податливую текстуру. Затем я медленно проводил подушечками пальцев по внутренней поверхности ее щек, исследуя каждую складку, каждую неровность, проверяя чистоту и влажность. Потом наступала очередь зубов. Я методично, как эксперт-кинолог, ощупывал каждый зуб — резцы, клыки, коренные, проверяя их гладкость, прочность, безупречную чистоту. Мои движения были неторопливыми, почти медитативными. Я чувствовал под пальцами легкую дрожь, пробегавшую по ее телу, но это была не дрожь страха, а дрожь полного, животного подчинения и сосредоточенности на процессе. Она позволяла мне делать это, оставаясь абсолютно пассивной и открытой, ее дыхание было ровным, а взгляд остекленевшим от глубокого, почти трансового состояния покорности. Этот ритуал был для меня не унижением, а высшей формой интимности и контроля. Я проверял состояние своего самого ценного имущества, заботился о нем, убеждался в его идеальном состоянии. А для нее это было доказательством моей тотальной власти и заботы, физическим подтверждением того, что каждая часть ее тела принадлежит мне и существует для моего удовольствия и оценки. Однажды она спросила, глядя на огни города, за которыми мы наблюдали, стоя у панорамного окна: — Тебе не надоело со мной? Я ведь все время одна и та же. Предсказуемая. Я отложил планшет, медленно подошел к ней, взял ее подбородок в ладонь, заставив поднять на меня глаза. — Ты не «одна и та же». Ты — постоянно совершенствуешься. Каждый день, каждый час ты становишься лучше, точнее, гармоничнее, послушнее. Наблюдать за этим процессом, направлять его — величайшее интеллектуальное и эстетическое удовольствие в моей жизни. Ты — мой главный и самый долгоиграющий проект. Мое живое, дышащее творение. И я никогда не устану заботиться о самом ценном и прекрасном, что у меня есть. Она прижалась щекой к моей ладони, и в ее глазах светилось полное, абсолютное, безоговорочное понимание и благодарность. Она не хотела хаотичных перемен. Она жаждала того самого порядка, той самой предсказуемости, которые я ей даровал. Она хотела моего твердого руководства. Моей тотальной заботы. И я давал ей это в самом полном, исчерпывающем объеме. Я был ее творцом, ее хозяином, ее якорем и ее богом. И это было куда глубже, сложнее и страшнее, чем любая, даже самая изощренная, физическая жестокость. Это была абсолютная, добровольная аннигиляция личности во имя любви. Глава 13: Уроки наслаждения и тихая скука Я быстро привыкла к наготе. Сначала я ловила себя на том, что инстинктивно пытаюсь прикрыться руками, скрестить ноги, крадусь от комнаты к комнате, чувствуя на коже несуществующие сквозняки и взгляды. Но его взгляд... Его взгляд был теплее любого солнца. Он скользил по мне не с грубой похотью, а с холодным, оценивающим восхищением коллекционера, созерцающего бесценный, идеально отполированный экспонат. И вскоре жгучее смущение сменилось странной, тихой гордостью. Я расправила плечи, моя походка стала увереннее, плавнее. Я ловила свое отражение в темном стекле панорамных окон — стройная, подтянутая, с идеальной осанкой, с кожей, сияющей от здоровья, — и чувствовала прилив радости. Я нравилась ему. Я была его прекрасной, живой, и в этом был мой смысл. И да, от его одного лишь взгляда я мгновенно намокала. Это было непроизвольно, как дыхание, унизительно и пьяняще. Он заметил это почти сразу. Однажды, когда я, покраснев до корней волос, попыталась сбежать в душ после того, как он несколько минут молча рассматривал меня за завтраком, он мягко, но неотвратимо остановил меня, положив руку на мою руку. — Оргазм, как и любое истинное, глубокое удовольствие, требует накопления, терпения, — сказал он, его свободные пальцы медленно обвели контур моего затвердевшего соска, заставив меня вздрогнуть всем телом. — Его нельзя обесценивать, превращать в быструю, рутинную разрядку. Он должен быть наградой. Венцом усилий. Поняла меня? Он дал свои два пальца мне в рот, и я стала со страстью сосать их. Я кивнула, едва дыша, чувствуя, как между моих ног пульсирует от его прикосновения и его слов. С тех пор мои руки были при мне. Я училась терпеть, копить это сладкое, мучительное напряжение внутри, зная, что разрядка придет не просто так, а за что-то — за идеально выполненное упражнение, за послушание, за молчаливое принятие. Этой наградой стали мои уроки с попкой. Сначала это было странно, неудобно, даже немного больно. Но я старалась. Я сосредотачивалась на дыхании, на образе его одобрительной улыбки. И однажды, когда вибратор настойчиво жужжал глубоко внутри моей попки, а я, зажмурившись, ярко представляла его руки, его низкий, властный голос, волна наслаждения накатила с такой неистовой, животной силой, что я закричала, вцепившись в простыни, выгибаясь дугой. Это было ослепительно, оглушительно, совершенно ново. Мои мышцы живота судорожно сжались, и я описалась, теплая струйка растекаясь по бедрам и простыне. Я описалась от счастья. Он вошел в комнату — я в забытьи забыла закрыть дверь — и остановился на пороге. На его лице я увидела не удивление или отвращение, а глубочайшее, почти профессиональное удовлетворение, как у скульптора, завершившего сложную деталь. — Хорошая, грязная, девочка, — произнес он спокойно, и от этих низких, обжигающих слов меня затрясло с новой, еще более мощной силой, и я снова кончила, уже почти без чувств. — Очень хорошая. Ты приняла это, отдалась этому всем своим существом, без остатка. А теперь брысь в ванную! Приведи себя в порядок. Потом сама уберешь за собой. Языком. С тех пор, если он видел, что я на грани во время тренировки, он мог молча подойти сзади. Его пальцы, заставляли меня вздрогнуть, касаясь вспотевшей кожи. Он не просто стимулировал меня; он владел мной. Иногда мне достаточно было пососать его пальцы. Лучшая награда. Его большой палец находил клитор, уже чувствительный до боли от долгой работы, и начинал описывать медленные, размашистые круги, заставляя все мое существо сжиматься в ожидании. Но главным было другое. Два его пальца, указательный и средний, смазанные моей же влагой, без усилия входили внутрь. Это был не просто вход — это было заполнение. Они упирались в переднюю стенку, в ту самую волшебную точку G, и начинали ритмично давить на нее изнутри, создавая непереносимое, сладостное напряжение. Он буквально ловил меня на крючок, его пальцы внутри становились якорем, точкой опоры, вокруг которой вращался весь мой мир. Его рука управляла моим тазом, задавая неумолимый, глубокий ритм. Он помогал мне приседать и подниматься на фаллоимитаторе, и теперь каждое движение было обоюдоострым: скольжение стали внутри меня и ответное давление его пальцев на том самом чувствительном участке изнутри. Это была высшая милость, божественное поощрение, от которого мутилось сознание. Я кончала с тихим, сорванным стоном, превращавшимся в беззвучный крик. Мое тело прыгало и насаживалось на искусственный фаллос уже в конвульсиях, а его пальцы внутри лишь усиливали спазмы, продлевая оргазм до болезненной, невыносимой сладости. Сфинктер судорожно сжимался на мягком силиконе, и я плакала, захлебываясь слезами от переизбытка чувств, целуя его руки, его пальцы, соленые от моих слез, в немой, исступленной благодарности. Затем, не вынимая пальцев, он медленно поднял меня. Я была нанизана на его руку, как марионетка, полностью зависимая от каждого его движения. Мои ноги подкосились, но он крепко держал меня за бедро, не позволяя упасть. — Идем, — произнес он тихо, и его голос прозвучал как последняя точка в этом акте полного подчинения. Он повел меня в душ, не извлекая пальцев. Каждый шаг отдавался глубоко внутри, заставляя меня вздрагивать. Я шла, согнувшись, опираясь на него, чувствуя, как моё тело до сих пор пульсирует в такт отступающему оргазму. В душе он, наконец, медленно извлек пальцы, и я чуть не рухнула на кафель от внезапной пустоты. Но его руки уже были там, чтобы поддержать меня. Он усадил меня на маленькую скамеечку и принялся смывать с меня следы нашего действа — методично, тщательно, как всегда. Вода была теплой, его прикосновения — уверенными и властными. И я сидела, совершенно пустая и безвольная, отдаваясь и этой его заботе, как отдавалась всему остальному. Это было продолжение того же ритуала. Завершающий аккорд. Наши пробежки тоже обрели новый, сокровенный смысл. Теперь я бежала не просто так. Внутри меня была маленькая, но весомая тайна — силиконовая пробка, его метка. Сначала я чувствовала каждый ее миллиметр, каждый шаг отдавался странным, глубоким, почти болезненным давлением, заставляя меня идти особой, пружинящей походкой. Она терла и массировала матку. Но я гордилась этим дискомфортом. Это было испытание на прочность, которое я проходила для него, тайный знак его власти надо мной. И вскоре я почти перестала замечать помеху, замечая только приятный массаж. Она стала частью меня, моим маленьким, сокровенным секретом, который незримо связывал нас еще сильнее. Всё было хорошо. Идеально. Я была счастлива в своем красивом, стерильном, упорядоченном мире, где всё имело смысл, причину и служило одной великой цели — быть совершенной для него. Но одно начало тихо, неумолимо точить меня изнутри, как червь. Скука. Не общая скука жизни. А конкретная, острая — в кофейне. Моя работа, которая раньше казалась таким окном в яркий, богемный мир, теперь была унылой, монотонной, бессмысленной рутиной. Споры о «нотах сиропа» и «духовной ауре молока», претенциозные клиенты, бесконечные, однообразные потоки латте и капучино... Всё это стало казаться таким мелким, таким приземленным, таким глупым после благоговейной тишины нашей квартиры, после глубины наших вечерних бесед-отчетов, после сконцентрированной интенсивности его внимания. Я боялась сказать ему об этом. Боялась, что он увидит в этом слабость, неблагодарность, недоработку. Что разочаруется во мне, в своем самом главном проекте. Ведь он так гордился моей собранностью, моим умением стоически и безупречно справляться с любыми, самыми скучными задачами. А я не могла справиться с простой, глупой, человеческой скукой. Я молчала, надевая свой фирменный, накрахмаленный фартук каждый день, и старалась делать свою работу так же механически безупречно, как и всё остальное в моей новой жизни. Но внутри, под слоем покорности и довольства, что-то важное тихо и неумолимо угасало, засыпало скучным, серым пеплом. Глава 14: Игра в терпение Он читал меня как открытую книгу, написанную им же самим. Малейшая тень скуки на лице, чуть более сдержанная, автоматическая улыбка, едва заметное замедление движений — ничто не ускользало от его пристального, сканирующего внимания. Ведь я была его главным, живым произведением, а он — дотошным художником-реставратором, замечающим каждую мельчайшую трещинку на свежем слое лака. Однажды за ужином, когда я машинально ковыряла вилкой в идеально приготовленном лососе, он отложил свой прибор и посмотрел на меня прямо, своим пронзительным, рентгеновским взглядом. — Что-то беспокоит тебя? Ты стала чуть более отстраненной в последние дни. Рассеянна. Произошло что-то? Клиенты? — Его голос был ровным, без упрека, просто констатирующим факт. Я опустила глаза, нервно вертя в пальцах тонкий стебель бокала с водой. Сказать? Признаться, что мне, его идеально выдрессированному созданию, банально... скучно? Это звучало так по-детски, так глупо и неблагодарно по отношению ко всему, что он для меня сделал. — Это... работа, — выдохнула я наконец, чувствуя, как горит лицо. — В кофейне. Все те же лица, те же капризы. Стало как-то... однообразно. Пусто. Он не стал ругать меня. Не назвал неблагодарной дурой. Он мягко отнял у меня бокал, взял мою руку в свою и задал всего один вопрос, который перевернул всё внутри, обнажив всю правду: — А ты с детства мечтала стать баристой? Это была твоя конечная, заветная цель? То, ради чего ты рождена? Я замерла, словно меня окатили ледяной водой. В голове пронеслись обрывки детских и юношеских фантазий, такие яркие и такие далекие. Балерина. Певица. Художница, как он. Путешественница, открывающая новые земли. Потом учеба, которая ни к чему не привела, годы поисков себя, метаний, и эта кофейня как временное, удобное пристанище... которое затянулось на годы и стало клеткой. — Нет, — тихо, почти шёпотом призналась я, чувствуя жгучий стыд. — Конечно нет. — Тогда продолжай ходить, — сказал он спокойно, без тени сомнения. Его голос был голосом абсолютной, неоспоримой логики. — Пока ты честно не определишься с тем, чего ты хочешь по-настоящему. Пока не найдешь свою истинную цель. Работа — даже самая рутинная — дисциплинирует. Она учит тешь делать то, что «нужно», а не то, что «хочется» в данный момент. Это самый ценный урок для ума и характера. Мое сердце упало где-то в районе колен. Глупо, но я тайно надеялась, что он просто великодушно разрешит мне уйти, освободит меня от этой обязанности. Но его решение было безжалостно мудрым, и я это понимала. Просто смириться с этим было мучительно тяжело. И тогда он предложил игру. Его глаза блеснули той самой опасной, хищной хитринкой, которая всегда заставляла мое сердце биться чаще, а живот сжиматься от сладкого ужаса. — Чтобы тебе было... интереснее, я внесу небольшие коррективы в твой рабочий день. Каждое утро, перед сменой, я буду вставлять в тебя кое-что особенное. Небольшой, но очень эффективный вибратор. С дистанционным управлением через приложение на моем телефоне. От этих слов у меня перехватило дыхание, а между ног стало горячо и влажно. Представление о том, что я буду стоять за стойкой, взбивая молоко и вежливо улыбаясь капризным клиентам, а глубоко внутри меня, в самой сокровенной глубине, будет тихо жужжать и пульсировать его воля, его незримое присутствие, заставило меня мгновенно и обильно намокнуть. Это было самое унизительное и самое возбуждающее, что я могла представить. — Твоя задача, — продолжил он, и в его бархатном голосе зазвучали стальные нотки, — продержаться. Сдерживаться. Весь день. Не кончить. Не подать ни единым видом, что происходит что-то необычное. Ни вспотеть ладонями, ни покраснеть, ни изменить дыхание. За произвольный, самовольный оргазм, без моего прямого разрешения, последует серьезное наказание. Ясно? Я могла только кивнуть, мой рот был сух, как пустыня. Страх и дикое, запретное, всепоглощающее возбуждение боролись во мне, и победило, как это часто бывало, последнее. На следующее утро так и произошло. После прохладного, бодрящего душа он уложил меня на широкую кровать, щедро смазал прохладный, обтекаемый силикон и медленно, почти неспеша, ввел его в меня. Я почувствовала легкое, почти призрачное жужжание, которое тут же смолкло. — На минимальной, фоновой мощности, — пояснил он, целуя меня в лоб с отеческой нежностью, как ребенка, собравшегося в школу. — Просто чтобы ты не забывала, кто ты и чья ты. Удачи, моя хорошая. Весь тот день стал самым трудным, изматывающим и самым волнующим испытанием в моей жизни. Каждый сделанный заказ, каждое движение, каждый наклон к холодильнику за молоком отзывалось глухим, едва уловимым вибрационным эхом внутри меня, постоянным, нервирующим напоминанием. Я ловила себя на том, что замираю на месте, когда кто-то делал неожиданно сложный заказ, сердце заходилось от страха — а вдруг это он, проверяя меня, решил устроить внеплановую проверку? Я покрывалась алым румянцем, когда вибрация на секунду-другую внезапно усиливалась — то ли сбой связи, то ли он просто так, шутя, напоминал о своем присутствии. Мне приходилось постоянно, ежеминутно контролировать свое дыхание, выражение лица, сжимать внутренние мышцы, чтобы подавить нарастающее, предательское, сладкое напряжение, которое грозило вот-вот вырваться наружу конвульсией наслаждения. Это была изощренная пытка и самый мощный, самый опасный допинг одновременно. Весь мир вокруг вдруг заиграл новыми, острыми красками. Скучная, серая работа превратилась в секретное поле битвы, где я была и солдатом, и полем боя, и главным трофеем. Я ловила на себе восхищенные и вожделеющие взгляды мужчин и с иронией думала, что они видят просто симпатичную бариста, а не женщину, едва сдерживающуюся от дикого оргазма, за каждым движением которой наблюдает невидимый хозяин. Когда я наконец, на излете сил, вернулась домой, я едва переступила порог, как мои ноги подкосились. Он ждал меня в своем кресле, с планшетом в руках, как будто ничего необычного не происходило. — Ну как? — спросил он просто, отложив гаджет. — Я... я справилась, — выдохнула я, почти падая перед ним на колени, чувствуя, как дрожь наконец-то вырывается наружу. — Я не... я сдержалась. Он улыбнулся своей особой, скупой, но такой желанной улыбкой, полной глубочайшего удовлетворения, и погладил меня по голове, как верного пса, принесшего дичь. — Очень хорошая девочка. Умница. Иди прими душ. Ты более чем заслужила свою награду. И награда последовала. Сначала он притягивал меня к себе лицом, укладывая на спину, и его голова опускалась между моих дрожащих бедер. Его язык был не просто влажным и горячим; он был инструментом виртуоза. Он не просто ласкал, а исследовал, вчитывался в каждую складку, каждую нервную пульсацию моего тела. Он накрывал клитор целиком, губами и языком создавая вакуум невыносимой нежности, а кончиком в это же время выстукивал на нем бешеный, сводящий с ума ритм. Я кончала первым же мощным спазмом, крича и впиваясь пальцами в подлокотники кресла, но он не останавливался. Он пил мои соки, глубже вгоняя в меня язык, продлевая оргазм до тех пор, пока я уже не могла различить, где заканчивается боль и начинается бесконечное, ослепительное удовольствие. И прежде чем я могла прийти в себя, его пальцы впивались в мои волосы и мягко, но неумолимо вели меня выше, к его возбуждению. Глубокий минет был не просто действием, это была молитва. Я принимала его полностью, до самого основания, чувствуя, как головка упирается в горло. Мое горло уже научилось принимать его, мышцы глотки расслаблялись и сжимались в ритмичных, глотательных движениях, массируя его длину с внутренней стороны. Я обходилась без рук, только губы, язык и глубина, демонстрируя всю полноту своей благодарности и мастерства. И снова оргазм накатывал на меня, не от физической стимуляции, а от осознания своей власти — власти довести его, власти принять его дар, власти раствориться в нем полностью. Я кончала снова, тихо и беспомощно, ощущая его пульсацию на своем языке, и это было не милость, а божественное слияние. Игра продолжалась. И я, к своему собственному удивлению, включилась в нее с азартом и самоотдачей, которых сама от себя не ожидала. Каждый новый день был новым вызовом, новой возможностью доказать ему свою стойкость. А я так отчаянно хотела заслужить его похвалу, его одобрение, его взгляд, полный гордости за свое творение. Глава 15: Раскрытие сущности Я любил её. Не так, как любят людей — с их слабостями, непостоянством и правами. Я любил её самоотверженность, её жадное до моей воли стремление угодить, её готовность растворяться в моих правилах без остатка, как сахар в горячей воде. Она была идеальным, податливым сосудом, и я наполнял его собой, своим контролем, своей волей, своей извращенной страстью. Игру нужно было усложнять, иначе она рисковала стать рутиной. Теперь её будил не мой ласковый поцелуй, а низкое, настойчивое, пробуждающее жужжание вибратора, вставленного в неё с вечера и активированного телефоном дистанционно. Она просыпалась от него — мгновенно, вся влажная, сонная, с помутневшим взглядом, уже возбужденная и готовая к служению. Её первым движением было потянуться ко мне, взять мой уже готовый, набухший член в свой маленький, горячий, умелый ротик и разбудить меня глубоким, почти инстинктивным минетом. Идеальное, ритуальное начало дня. Затем — пробежка. Наша утренняя дисциплина превратилась в изощренный танец. Она бежала с пробкой в попке, плотно заполняющей её, и тем же вибратором во влагалище. Я держал в руке телефон, как дирижер свою палочку, ощущая холодный корпус устройства. Я видел малейшие изменения в её беге: лёгкую судорогу в бедре, когда я добавлял мощность, едва заметное замедление шага, чтобы поймать дыхание, сжатые кулаки. Её кожа покрывалась испариной, сливаясь с утренней росой, и я вдыхал этот запах — чистого, напряженного тела и едва уловимой, сладковатой влаги, просачивающейся сквозь вибратор. Она бежала, уставившись в точку перед собой, вся — одно большое, напряженное, послушное желание. Это было прекрасно. Однажды в парке, на самом сложном подъеме, когда её дыхание стало прерывистым, а мышцы напряглись до предела, я выкрутил мощность на максимум. Её спина выгнулась, как у кошки, она издала сдавленный, хриплый звук, который был вырван прямо из диафрагмы. Её ноги подкосились. Она не упала, а почти рухнула под ближайшее дерево, судорожно схватившись за ствол. Её тело выгнулось в немой судороге, и она кончила, дико, бесконтрольно, с тихим всхлипом, похожим на рыдание. Я наблюдал, как трясется её поясница, как по внутренней стороне бедер расползается темное влажное пятно, пропитывая ткань спортивных штанов. Она описалась. От дикого, сокрушительного оргазма, который вырвался из-под контроля. Я подошел не сразу. Дав ей несколько секунд на осознание провала. Наслаждаясь этим зрелищем: её унижением, её животной слабостью. Она сидела на земле, вся в пыли и травинках, дрожа как осиновый лист. В её глазах читался ужас — не перед наказанием, а перед потерей контроля, перед своей собственной слабостью. Она испугалась силы собственного тела, предавшего её, обнажившего её суть без моего прямого приказа. Я опустился рядом с ней на корточки, чувствуя, как камни впиваются в икры. Не ругал. Не упрекал. Я взял её личико в свои ладони, ощущая дикий, птичий пульс у неё на висках и влажную грязь на щеке. Она смотрела на меня расширенными, полными слез глазами, в которых плескался стыд. — Тише, тише, моя хорошая, — прошептал я, и мой голос прозвучал тихо и густо, как мёд. Я поцеловал её в губы. Они были солеными от слез и прохладными. Она всхлипнула и прижалась ко мне, ища защиты у самого источника своего стыда. — Прости... я не сдержалась... я... — Ты — похотливая, любимая сучка, — перебил я её, и мои слова прозвучали не как оскорбление, а как констатация высшей, неоспоримой истины. Как клеймо, которое, наконец, приняло её плоть. — Твоё тело создано для наслаждения. Для моего наслаждения тобой. Ты не должна бояться этого. Ты должна это принять. Обожать это в себе. Она замерла, вслушиваясь в мои слова, вживляя их в себя. И я увидел, как в её глазах что-то щелкает. Как уходит страх. Как на смену ему приходит... облегчение. Да. Именно облегчение от того, что больше не нужно притворяться. Она смотрела на меня с немым вопросом, и я кивнул, подтверждая: да, это так. Ты — моя сучка. В этом нет ничего плохого. В этом твоя сила и твоя свобода. И она приняла это. Её тело обмякло, она снова прильнула ко мне, но теперь уже не в страхе, а в благодарности, вливаясь в меня всем своим существом. Она поняла. Поняла, наконец, кто она. — Встань, — скомандовал я мягко, но твердо. — Мы продолжаем пробежку. Она послушно поднялась. Мокрое пятно на штанах было безжалостно заметным, унизительным. По тропинке приближалась пара утренних бегунов. Она потупила взгляд, пытаясь прикрыться руками. — Руки по швам, — сказал я ровным голосом. — Голова выше. Гордись тем, кто ты есть. Ты приняла наслаждение. В этом нет стыда. Она выпрямилась, сделала глубокий вдох и побежала. Она бежала, не скрывая мокрых штанов, не обращая внимания на удивленные и осуждающие взгляды прохожих. Её лицо было сосредоточено и спокойно. Она бежала, принимая себя. Принимая меня. Принимая нашу правду. В тот момент я осознал — пора. Пора раскрывать её истинную сущность до конца. Ритуалы, тренировки, игры — всё это было подготовкой, лепкой сосуда. Теперь он был готов. Он трепетал в моих руках, жаждущий быть наполненным до краев не игрой, а глубинным, животным принятием правды о себе. Я бежал рядом, и каждый её шаг был теперь не просто движением, а подтверждением обета. Воздух стал острее, цвета — ярче. Она была готова. Глава 16: Моя новая правда Я долго и мучительно думала. Сидя в кафе между заказами, стоя у плиты, готовя наш идеальный ужин, лежа в постели, пока он рисовал моё обнаженное тело, запечатлевая каждую линию, каждую тень. Кем я хочу быть? Этот вопрос, который я годами от себя отгоняла, прячась за философией и метафорами, теперь висел в воздухе, настойчивый и требовательный, как его взгляд. Он требовал ответа. Всплывали обрывки прошлого, как выброшенный на берег мусор. Школьный хор. Учительница, хвалящая мой слух и поставленный голос. Мои собственные, украдкой записанные на старый диктофон песни — робкие, наивные, полные настоящего, невысказанного чувства. И всегда — леденящий, парализующий страх. Страх сцены, страх чужих оценивающих взглядов, страх оказаться посмешищем, страх, что моего «таланта» недостаточно, что он — миф. Я боялась ему говорить. Боялась, что он счел бы это глупым, инфантильным, несерьезным увлечением, недостойным его идеально отлаженного механизма. Но он, как всегда, все понял без слов, уловив малейшие вибрации моего смятения. — Ты определилась? — спросил он однажды вечером, откладывая книгу по истории искусства и смотря на меня прямо. Я глубоко вдохнула, словно собираясь нырнуть в ледяную, неизвестную воду. — Я... я думаю, я хотела бы петь. Не оперу, конечно. Что-нибудь... лирическое. Джазовое, может быть. Я ждала насмешки, скепсиса, снисходительной улыбки. Но он лишь медленно кивнул, его лицо осталось задумчивым и серьезным, как если бы я предложила новый инвестиционный проект. — Хороший, глубокий выбор. У тебя есть природные задатки. Но нужно будет работать над голосом чтобы он стал глубоким, с приятным, бархатным тембром, хорошей глубиной. Надо будет найти тебе серьезного, строгого педагога по вокалу. Но пока — работа в кафе продолжается. Можно совмещать, пока не будет стабильного, профессионального результата. Дисциплина и распорядок — прежде всего. Облегчение, хлынувшее на меня, было таким мощным, что у меня перехватило дыхание и я чуть не расплакалась прямо там, на диване. Он не просто разрешил. Он «одобрил». Он увидел в этом смысл, потенциал, цель. Он встроил мою мечту в наш общий порядок. А потом он подарил мне новую пробку. Гораздо больше предыдущей, тяжелую, из черного матового, почти живого на ощупь силикона, с изящным, словно паутинка, узором и все тем же крошечным бриллиантом у основания. — Чтобы ты не забывала, кто ты, пока ищешь и кем хочешь стать, — сказал он, вводя ее в меня своими уверенными, властными пальцами, и это движение было одновременно интимным и функциональным, как заправка машины бензином. И я не забывала. После того случая в парке что-то окончательно переключилось, щелкнуло внутри навсегда. Его слова — «похотливая, любимая сучка» — которые должны были унижать, на самом деле освободили меня. Они сорвали с меня тяжкий, невыносимый груз чужих и своих собственных ожиданий, груз необходимости быть «нормальной», «приличной», «правильной» девушкой с «нормальными» мечтами. Они дали мне чистое, безоговорочное разрешение. Разрешение быть той, кем я была на самом деле на глубинном, животном уровне — существом, созданным для него, для его удовольствия, для его воли. Это было не унижение, а клеймо, дарующее принадлежность. Порода. И когда я вспоминала его слова, особенно в самые неподходящие моменты — разнося заказы, моя кружки, — по мне пробегала волна такого жгучего, такого всепоглощающего, постыдного желания, что темнело в глазах и подкашивались ноги. Я ловила себя на том, что в такт шагам, под шум кофемашины, я про себя, губами, повторяю: «Я его сучка. Его похотливая, послушная сучка». И от этих мыслей, от этих слов по моим жилам разливался жидкий огонь, а между ног становилось горячо, влажно и пусто, требуя его заполнения. Иногда он, ради забавы и чтобы показать мне, кто я есть, по телефону приказывал: «Пописай». И я, не раздумывая, подчинялась. Теплая струя разливалась по бедрам, пропитывала тонкую ткань униформы, стекала по ногам, наполняя кроссовки теплой влагой. Я стояла, чувствуя, как по щекам ползут горячие слезы стыда и возбуждения, и продолжала работать, улыбаясь клиентам, делая капучино дрожащими руками. Запах мочи смешивался с ароматом кофе, и это было моим самым сокровенным, самым постыдным секретом. Моим доказательством. Теперь я не просто молча принимала это. Я жаждала этого. Я жаждала, чтобы он использовал меня жестче, чаще, в любом месте, в любое время, чтобы он еще раз подтвердил мой статус, мою суть. Я ловила его взгляд на людях, в метро, в магазине, и в моих глазах уже не было ни капли страха или смущения, а было лишь немое, откровенное предложение, готовая, трепещущая покорность. Я была его. Полностью. Без остатка. И не просто его женщиной, его девушкой, его музой. Его вещью. Его собственностью. Его выдрессированной, похотливой, бесконечно преданной сучкой. И в этом была моя самая полная, самая оголенная, самая постыдная и самая честная правда. И мое самое большое, самое чистое, самое странное счастье. Глава 17: Дрессировка эксгибиционизма Вот она и раскрыла, сама того не ведая, ещё один, более глубокий слой своих страхов. Боязнь сцены, боязнь чужих оценивающих глаз, вечный, изматывающий страх не соответствовать, быть осмеянной. Идеально. Это был не недостаток, а сырая, необработанная глина. Теперь у меня была новая, увлекательная задача — было над чем работать. Я нашёл ей курсы вокала. Не какие-нибудь подпольные кружки для домохозяек, а серьёзную, солидную школу с концертами в маленьких залах и строгими отчётными выступлениями перед комиссией. Она посещала их три раза в неделю. Я видел, как она возвращается домой морально выжатая, бледная, но с новым, неуверенным, но упрямым блеском в глазах. Она училась владеть своим голосом, своим дыханием, своим телом на сцене. А я тем временем, параллельно, учил её другому, более важному владению. Я стал методично, шаг за шагом, развивать в ней эксгибиционизм. Объяснял это как неопровержимую аксиому, как таблицу умножения: «Людям, в массе своей, нет абсолютно никакого дела до тебя. Они поглощены своими мелкими проблемами, своими телефонами, своими мыслями. В трусиках ты или без, в лифчике или нет — они заметят лишь в одном случае: если ты сама своим видом, поведением привлечёшь их внимание. А ты — не привлечёшь. Потому что ты будешь вести себя так, как будто твоя нагота, твоя доступность — это самая естественная, нормальная вещь на свете. Уверенность — вот лучший камуфляж». Она слушала, кивала, впитывала мои слова, как губка. И начинала осторожно проверять теорию на практике. Сначала робко, почти случайно. Расстёгнутая на пару сантиметров молния на плаще, под которым не было ровным счетом ничего. Отсутствие лифчика под тонкой, обтягивающей блузкой, сквозь которую проступали твердые соски. Потом — смелее, с вызовом. Она стала делать мне минет в самых неожиданных, почти публичных местах. Мне уже не нужно было просить, даже намекать. Я просто клал руку ей на затылок, проводил пальцами по её шее, и она уже опускалась на колени, её ловкие пальцы сами находили и расстёгивали мою ширинку. В полутемном кинозале на последнем, пыльном ряду, под звуки взрывов с экрана. В глухой нише с огнетушителем в стерильном бизнес-центре, в метре от проходящих людей. В сквере, за высоким кустом шиповника, пока мимо, в двух шагах, проходили гуляющие мамы с колясками. Она работала головой с полной самоотдачей, не взирая на обстановку, целиком поглощенная процессом служения, и только её расширенные, темные зрачки выдавали дикий, пьянящий коктейль из ужаса и восторга. И конечно же хождение в туалет по команде. Теперь она не стеснялась. Я всегда находил интересные моменты. Она стояла в очереди в банке. Стеклянные двери, гул кондиционеров, строгий запах денег и чистящих средств. В ухе тихо щелкнул bluetooth-наушник, и раздался его голос, ровный, без эмоций, как диктор автоответчика: — Сейчас. Никаких дополнительных команд. Она знала, что делать. Её тело отреагировало мгновенно, ещё до того, как сознание успело обработать приказ. Мышцы живота расслабились, и тёплая волна хлынула по её внутренней стороне бедер, пропитывая тонкую ткань летних льняных брюк. Она не дрогнула, не изменила выражения лица. Просто сделала шаг вперед по направлению к стойке, оставляя на полированном гранитном полу едва заметные влажные следы от подошв своих туфель. Запах её собственной мочи, острый и животный, смешивался со стерильной атмосферой банка, и это было её маленьким, постыдным, сокровенным секретом. Она улыбнулась клерку, протягивая документы сухими пальцами. Они гуляли по воскресному фермерскому рынку. Яркое солнце, крики торговцев, запах спелых фруктов и свежего хлеба. Он остановился у прилавка с сырами, взяв в руки головку дорогого бри. Он повернулся к ней, как будто собираясь что-то спросить о сорте, и тихо, так, что слышала только она, произнес: — Здесь. Сейчас. Она замерла на секунду, чувствуя, как по её спине пробегают мурашки. Потом кивнула, делая вид, что рассматривает виноград. Она сосредоточилась, и тёплая струя полилась по её ногам, скрытая высокими сапогами и длинной юбкой. Никто ничего не заметил. Только он видел, как взгляд её стал стеклянным и отрешенным на несколько секунд, прежде чем она снова улыбнулась и взяла его под руку. Они пошли дальше, а в её сапогах хлюпало. Самая сложная проверка. Переполненный вагон метро в час пик. Она стояла, вжавшись в дверь, чувствуя на себе дыхание и тела десятков незнакомых людей. В наушнике раздалась его команда, всего одно слово: — Сделай. И она сделала. Прямо там, в толпе, в своей самой изящной, новой шерстяной юбке. Она чувствовала, как тепло растекается, как ткань темнеет и тяжелеет, прилипая к коже. Жар стыда заливал её лицо, но она не опустила глаз. Она смотрела на свое отражение в темном стекле двери — на размытый силуэт красивой, собранной женщины, скрывающей свой самый грязный секрет. Она видела, как мужчина рядом с ней сморщил нос, почувствовав запах, и отвернулся к окну. Она стояла неподвижно, пока по её ногам стекали струйки, наполняя её туфли. Она выдержала. Не выдала себя ни единым движением. И когда они вышли на её станции, он взял её за локоть и тихо сказал на ухо: — Идеально. Моя хорошая девочка. И этот шепот стоил всего. Весь позор, весь унизительный дискомфорт превратился в волну пьянящего, животного удовольствия. Она была его. И он был доволен. Это было единственное, что имело значение. Я пытался заниматься с ней сексом в туалетах дорогих ресторанов, в пустом, пахнущем пылью читальном зале библиотеки, в тесной гардеробной бутика. Но оставалась одна проблема. Она была крикуньей. От боли, от удовольствия, от невыносимой смеси того и другого — её рот издавал громкие, сдавленные, по-звериному откровенные вопли, которые могли нас легко выдать. Тогда я предложил технологичное и элегантное решение. — Новый ошейник, — сказал я, показывая ей на планшете модель — тот же матовый серебряный ободок с инициалами, но с почти незаметным пластиковым модулем. — С миниатюрным электрошокером. Срабатывает на определённый уровень децибел. Как только твой крик превышает допустимый, тихий порог — следует короткий, обучающий разряд. Не калечащий. Не причиняющий реального вреда. Напоминающий. Она посмотрела на меня с немым ужасом. Я это предвидел. — Я испытаю его на себе первым. Я должен знать на собственном опыте, чему я подвергаю свою любимицу. Это правило. Я надел ошейник на себя. Сделал глубокий вдох и крикнул — негромко, но достаточно. Разряд был резким, внезапным, похожим на укол острой иглой в шею, за которым следовала легкая, жгучая волна. Неприятно, отрезвляюще, но совсем не больно. Как удар хлыста по воздуху рядом с ухом — больше звук, чем ощущение. Я вдохнул, не подав вида, и кивнул. — Понимаешь? Это не боль. Это — стоп-сигнал. Напоминание о дисциплине. О нашем правиле тишины. Она согласилась. Конечно, согласилась. Её доверие, её вера в мою непогрешимость были абсолютными. Это дало немедленные и потрясающие результаты. В тот же вечер, в моей машине на пустынной ночной парковке у реки, я вошёл в неё сзади, грубо, почти по-зверски. Она зажмурилась, её рот распахнулся в классическом, беззвучном теперь стоне, но как только мышцы её горла сжались для первого же крика, раздался тихий, сухой щелчок, и её всё тело мелко и часто дёрнулось от разряда. Она ахнула, закусила губу до крови, подавив звук. Кончила она в полной, абсолютной, звенящей тишине, её тело билось в немой, судорожной истерике наслаждения, слёзы ручьями текли по её лицу и капали на кожаную обивку сиденья. Это было самое эротичное, самое властное зрелище, что я видел в своей жизни. И конечно желтая струя. Зато дома, после того как я снимал с неё ошейник, она давала себе полную волю. Её крики, крики освобождения и триумфа, эхом разносились по нашей стерильной, минималистичной квартире, и я не останавливал её. Это была её законная награда. Её катарсис. Я научил её использовать нужные, точные слова по отношению к себе. Шёпотом, на ухо, пока я глубоко, до самого предела, входил в неё. — Кто ты? — спрашивал я, сжимая её соски до боли, чувствуя, как её внутренности судорожно сжимаются вокруг меня. — Твоя... твоя похотливая, течная сука, — задыхаясь, выдыхала она, и её щёки пылали от стыда и возбуждения. — Громче! - следовал звонкий шлепок по её упругой, покрасневшей ягодице. — ТВОЯ ПОХОТЛИВАЯ ТЕЧНАЯ СУКА! — Правильно. Молодец. Теперь открой рот. Шире. Она раскрывалась, как экзотический, порочный, прекрасный цветок. Слой за слоем. Страх сцены я лечил публичным эксгибиционизмом. Страх не соответствовать — абсолютной, доведенной до автоматизма покорностью. Она становилась тем, кем должна была стать с самого начала. Моим самым удачным, самым сложным и самым совершенным проектом. Моей прекрасной, похотливой, немой в нужные моменты сукой. И это было прекрасно. Глава 18: Триумф и нежность Его бесконечные, изощренные уроки наконец принесли свои плоды. Я не просто перестала бояться сцены — я перестала видеть её как нечто угрожающее. Вернее, я научилась направлять леденящий страх в другое, более мощное русло. Мне было плевать на то, как посмотрят на меня незнакомые люди в зале. Их взгляды были просто визуальным шумом, не более значимым, чем взгляд случайного прохожего на улице. Самое страшное, единственное, что имело значение, было — подвести его. Не оправдать его веру, его титанический труд. Не соответствовать тому безупречному, сияющему идеалу, который он так терпеливо и методично вылепливал из сырой, дрожащей глины моих старых страхов и неуверенности. На первом, самом важном концерте, мне достался всего один номер. Одна-единственная песня. Но она казалась мне целым Эверестом, который нужно было покорить с первой попытки. За кулисами царил хаос — приглушенные голоса, бегущие тені, резкий свет рампы, выхватывающий из темноты чьи-то напряженные лица. Я тряслась так, что зубы выбивали дробь, а колени подкашивались. Он стоял рядом, молчаливый и недвижимый, как скала, его твердая, теплая рука лежала на моей пояснице, и это было единственной реальной, незыблемой точкой опоры во всей этой кружащейся вселенной. Мне так нужен был хоть какой-то знак, хоть капля его одобрения. Инстинктивно, не думая, я потянулась к его свободной руке, прижалась к ней горячим, вспотевшим лбом. Пахло его кожей, дорогим мылом и едва уловимым ароматом бренди — его собственным, уникальным, успокаивающим запахом. Я провела по его пальцам губами, а потом облизала его ладонь, как преданное животное, ищущее утешения в знакомом запахе хозяина. Он не оттолкнул меня. Разрешил. Я взяла его пальцы в рот, просто подержала, пососала их, чувствуя солоноватый вкус его кожи, текстуру идеально отполированного ногтя, и это странное, детское, почти животное действие успокоило меня больше любых слов. Это был мой немой вопрос: «Я всё делаю правильно? Я хорошая?» И его молчаливое позволение, легкое, едва заметное движение большого пальца по моей щеке, было ответом. Перед самым выходом, когда я уже почти не могла дышать от паники, он развернул меня к себе, отгородив от суеты своим телом, создав наш собственный, интимный кокон. Он наклонился ко мне, и его губы едва коснулись мочки моего уха, посылая по всему моему телу электрические разряды. Его шёпот был низким, властным и в то же время бесконечно обволакивающим: — Ты помнишь, кто ты? Ты — моя. Ты — идеальна. Ты поешь не для них. Ты поешь для меня. Все эти люди — просто фон, безликий шум. Ты выйдешь, и ты сделаешь это так, как делаешь всё для меня — безупречно, с полной самоотдачей. Я в тебе верю. Я всегда в тебе верил. И я поверила ему. Потому что он никогда не врал. Он всегда, всегда был прав. Я вышла на сцену. Резкий, слепящий свет софитов ударил мне в лицо, превратив зал в темное, бездонное пятно, из которого доносилось лишь смутное, приглушенное дыхание. Я не видела лиц, не видела глаз. Я искала только его. И нашла. Его глаза в первом ряду. Темные, глубокие, спокойные, полные такой абсолютной, непоколебимой уверенности, что моё собственное сердце перестало бешено колотиться и забилось ровно, в такт его дыханию. И я запела. Только для него. Я пела о любви, о потере, о надежде. Я вложила в песню всё: весь свой прежний страх, всю свою старую боль, всю свою новую, оголенную, животную правду и безграничную благодарность. Мой голос, окрепший и послушный, летел над рядами, то нежным шёпотом, касающимся самых дальних уголков зала, то мощным, чистым потоком, заполнявшим всё пространство. Я чувствовала, как каждая нота рождается глубоко внутри и выходит наружу, отданная ему в дар. И когда последняя нота замерла в воздухе, повисла и растаяла, наступила оглушительная тишина. А потом — взрыв. Зал встал. Люди аплодировали мне, кричали «браво!». Я стояла, ослепленная, оглушенная, ничего не понимая, и просто смотрела на него. Он сидел, не вставая, смотрел прямо на меня и медленно, с непередаваемым достоинством и нежностью, хлопал. Его аплодисменты, его взгляд, полный безоговорочного признания, были для меня дороже всех оваций мира. После был ужин в маленьком, уютном, затемненном ресторанчике, где нас усадили в глубой полукруглый столик, скрытый от посторонних глаз. Он заказал дорогое вино, густое и бархатистое. Он смотрел на меня через стол, переливая рубиновую жидкость в бокалы, и его взгляд был осязаем — он словно поглаживал меня, снимая остаточное напряжение, заставляя кожу под платьем теплеть. Он гордился мной. Это осознание, этот взгляд, полный мягкой, глубокой нежности, от которой таяло всё внутри, даже кости, был слаще, сильнее, лучше любого самого мощного оргазма. А потом, дома, была любовь. Именно любовь. Не тренировка, не ритуал, не акт владения. Нежность. В нашей спальне он раздевал меня медленно, с благоговением, целуя каждую открывшуюся часть тела — плечо, ключицу, изгиб запястья, — как бесценную драгоценность. Его пальцы скользили по коже, оставляя за собой trails мурашек. Он уложил меня на кровать, как на алтарь, и опустился между моих ног. Его язык был нежным, ласковым и безжалостно точным, он вылизывал меня, ласкал, изучал каждую складку, доводя до исступления, пока я не закричала от наслаждения, не стесняясь, не сдерживаясь, потому что здесь, в нашем святилище, мне было можно всё. Я впилась пальцами в простыни, аромат которых был знаком и любим, и чувствовала, как всё мое существо растворяется в этом медленном, методичном поклонении. Затем он вошёл в меня. Нежно, медленно, не отрывая взгляда от моих глаз. Я видела в них свое отражение — запрокинутое, потерянное, абсолютно счастливое. — Нравится ли тебе быть моей любимой, единственной сучкой? — шептал он, двигаясь внутри меня с невыносимой, сладкой, почти медитативной медлительностью. Каждое движение было обжигающе глубоким и полным. — Да... о, боже, да... — стонала я, обвивая его ногами, впиваясь пальцами в его мощную спину, чувствуя под ладонями игру напряженных мышц. — Ты моя самая лучшая, самая талантливая, самая красивая сучка на свете? — Твоя! Только твоя! Всегда твоя! — мой голос сорвался на высокий, сдавленный визг, когда он вошел глубже, заполнив меня полностью. И тогда, на самом пике этого блаженства, этой всепоглощающей нежности и полного признания, когда наше дыхание слилось воедино, я подняла к нему глаза, полные слез абсолютного счастья, и выдохнула то, что просилось наружу уже давно, рожденное этой безумной близостью и благодарностью: — Возьми меня в попу. Пожалуйста. Я готова. Я хочу быть твоей полностью. Сегодня. Сейчас. Я хочу отдать тебе всё. Он замер надо мной. Его глубокие, темные глаза, только что подернутые дымкой страсти, стали серьезными, в них мелькнула тень какой-то древней, животной печали и бесконечной снисходительности. Он мягко, почти с отеческой нежностью, положил руку мне на щеку, большим пальцем поймав слезу, скатившуюся по виску. — Нет, моя хорошая. Не сегодня. Во мне всё сжалось от внезапной, детской обиды и жгучего непонимания. Почему? Я же готова! Я так старалась, я преодолела себя, я всё сделала правильно! Моя нижняя губа предательски задрожала. — Это, — сказал он тихо, целуя мои соленые слезы, — как самый первый раз. Всё должно быть совершенно. Идеально подготовлено. Я не причиню тебе боли. Я не испорчу этот прекрасный, совершенный вечер. Ты заслужила сегодня только ласку. Только нежность. Только любовь. И тогда я расплакалась по-настоящему, глубоко и безнадежно. Не от боли, не от унижения. От его бесконечной, неподдельной заботы. От осознания того, что он, этот строгий, всевластный творец, думал обо мне, о моем теле, о моих ощущениях, больше, чем о своем собственном желании, о своей власти. Он защищал меня. Даже от меня самой. Он берёг свое самое ценное творение. Я прижалась к нему, рыдая ему в грудь, а он гладил мои волосы, целовал макушку и шептал успокаивающе, как ребенку, пока мои рыдания не сменились прерывистыми всхлипываниями, а затем и тишиной, в которой было слышно только биение наших сердец: — Всё в свое время, моя хорошая. Всё в свое время. Ты и так уже вся моя. Каждая клеточка. Навсегда. Глава 19. Эксперимент Это был интересный эксперимент. Апофеоз всего, чему я её научил. Последний рубеж, после которого стыд должен был быть окончательно и бесповоротно изгнан, сожжён в горниле тотального послушания и выставлен напоказ. Офелия стояла в прихожей, полностью обнажённая. Холодный воздух квартиры мурашками пробегал по её коже. Только чулки с ажурными резинками, впивающимися в нежную кожу бёдер, лаковые туфли на высоченном, смертоносном каблуке — и новая, специально приобретённая для этого вечера пробка. Силиконовая, обтекаемой формы, с мягкой светодиодной подсветкой, мерцающей изнутри её тела смутным, зазывным розовым светом. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых читалась готовая сорваться в панику решимость. Зрачки были расширены до черноты, в них плескался животный ужас и жажда одобрения. — Надень, — я протянул ей длинный, тёмный плащ из тяжёлого кашемира. Она послушно закуталась, и дорогая ткань скрыла её наготу и смущение, оставив снаружи лишь острые носки туфель и блестящие взгляд. Поездка в машине была важной частью ритуала. Она сидела на пассажирском сиденье, закутанная в плащ, поджав ноги, и смотрела в ночное окно, по которму стекали отражения уличных огней. Я вёл машину одной рукой, другой положив ей на колено, чувствуя под пальцами через тонкую ткань тонкую, непрекращающуюся дрожь, бегущую по её коже. На светофоре я повернулся к ней. — Открой рот. Она повиновалась беззвучно, и я ввёл два пальца ей в рот, проверяя её, как проверяют лошадь перед покупкой — на податливость, на влажность, на готовность принять постороннее тело без малейшего сопротивления. Её язык немедленно обвился вокруг моих пальцев, горячий и шершавый, её губы сомкнулись, создавая вакуум. Она сосала их с тихим, похожим на мурлыканье звуком, глядя на меня в полумраке салона преданными, блестящими от слёз глазами. Это был её немой, инстинктивный способ сказать «спасибо» за доверие, за этот вызов, за саму возможность доказать свою преданность. Я припарковался на пустынной окраинной парковке, где свет фонарей был редким и призрачным. Прежде чем выйти, я достал пульт и активировал устройство внутри нее. Сначала она лишь вздрогнула от тихого щелчка, но когда мягкий розовый свет залил салон машины, отражаясь в её широких глазах, на её лице расцвела смесь шока и детского, почти магического восторга. — Он... светится, — прошептала она, с благоговением глядя вниз, откуда исходило это смутное, интимное, постыдное сияние. — Ты светишься, — поправил я её, проводя рукой по бедру. — Как самый дорогой, самый мой маячок. Я привёл её на центральную аллею, остановился и отстегнул застёжку плаща. — Сними. Она дрожала, но не от ночного холода. Её плечи подрагивали мелкой, частой дрожью перегретого двигателя. — Боишься? — спросил я тихо, почти шёпотом. Она покачала головой, и голос прозвучал хрипло и прерывисто: — Это не от страха. Я... я жутко возбуждена. До тошноты. Попробуй. Я молча засунул руку под плащ. Но не для быстрой проверки. Мои пальцы скользнули между её ног, нашли её клитор, твёрдый и набухший, как ягода, и принялись массировать его твёрдыми, безжалостно точными движениями. Она резко вдохнула, её бёдра дёрнулись, пытаясь бессознательно усилить давление, но я продолжал, не ускоряясь, выдерживая ровный, давящий ритм. Я чувствовал, как под моей ладонью всё её тело натянулось, как струна, как влага залила её, горячая и обильная, смывая последние следы стыда. Только тогда я ввёл два пальца внутрь, глубоко, до самых суставов, помастурбировал её изнутри, чувствуя, как её внутренности судорожно и жарко сжимаются на моей руке, пытаясь удержать. Я достал пальцы, блестящие и липкие на скудном свете фонарей, и поднёс к её губам. — Оближи. Всё дочиста. Она без малейших колебаний взяла мои пальцы в рот, жадно облизывая и посасывая их, не сводя с меня глаз, полных животного вызова и абсолютной покорности. Пока её язык скользил по коже, я протолкнул пальцы глубже, к горлу, проверяя рвотный рефлекс. Она подавилась, её глаза застилали слёзы, по углам губ выступили слюни, но она не сопротивлялась, лишь издавала тихие, хлюпающие звуки, пытаясь accommodate меня. Я не дал ей откашляться, удерживая её за подбородок, заставляя принять эту влагу, эту небольшую, унизительную потерю контроля как неотъемлемую часть процесса. — Рядом, — скомандовал я хрипло, пристёгивая к её ошейнику тонкий, но прочный кожаный поводок. Её возбуждение витало между нами почти осязаемой аурой, густой и сладковатой. Мы пошли по дорожкам парка. Со стороны это должно было выглядеть как сюрреалистическое зрелище: элегантный мужчина в дорогом пальто, ведущий на поводке полностью обнажённую женщину на шпильках. Мерцающий розовый огонёк бился у неё между ягодиц при каждом её шаге, подсвечивая путь, оставляя на земле призрачные светящиеся следы, будто за нами шёл призрак. Она шла, высоко держа голову, её поза была прямой и гордой, а тело — идеально выставленным, будто на подиуме, каждый мускул работал на показ. — Рядом, — скомандовал я, чуть натягивая поводок, когда она, опьянённая адреналином, пыталась ускорить шаг. — Не спеши. Ты никуда не торопишься. Она немедленно сбавила скорость, подстраиваясь под мой ритм. Её дыхание было частым и прерывистым, пар вырывался ртом густыми клубами, сливаясь с ночным туманом. — Стой, — бросил я резко, и она замерла на месте, как вкопанная, лишь грудь продолжала тяжело вздыматься, а свет между ног пульсировал в такт бешеному сердцебиению. Я медленно обошел ее, оценивающим взглядом хозяина, проверяя стойку, положение рук, угол спины. — Хорошо стоишь. Идеально. Поводок натянулся, и мы снова двинулись в путь. Приглушенный, отрывистый звук ее каблуков по асфальту отбивал чёткий ритм нашего шествия. — К ноге, — скомандовал я, и она прижалась ко мне бедром, её горячая, гладкая кожа касалась грубой ткани моих брюк. Я чувствовал исходящее от неё пышущее жаром тепло и ту самую мелкую, птичью дрожь. — Место, — указал я на скамейку, и она опустилась перед ней на колени, сложив руки за спиной, выгнув спину изящной дугой и подав грудь вперёд. Её глаза не отрывались от меня, полные ожидания и абсолютной готовности подчиниться любому приказу. Я отпустил поводок, давая ей символическую свободу, но она даже не пошевелилась, продолжая держать идеальную, вымученную позу. Позор был побеждён. Осталось лишь чистое, обострённое до предела ощущение момента, каждая секунда которого безраздельно принадлежала мне. Мы продолжили прогулку. Посреди самой тёмной и пустынной аллеи, в кольце спящих деревьев, я остановился. Моя рука легла ей на затылок, властно и нежно. Она молча, без малейшего намёка на сопротивления, опустилась на колени передо мной на холодный, шершавый асфальт. Её пальцы, ловкие и быстрые, даже не дрогнув, расстегнули мои брюки, и она вобрала меня в свой горячий, умелый, безраздельно преданный рот. Я стоял, глядя на её голову у своего живота, на светящуюся точку у её промежности, и контролировал своё дыхание. Розовый свет от пробки плясал на её бледной коже при каждом её движении, отбрасывая сюрреалистичные, пульсирующие блики на мои брюки и её дрожащие, напряжённые бёдра. Он мерцал учащенно, судорожно, когда её голова двигалась быстрее, и затихал в слабом, ровном свечении, когда она замирала, давясь, пытаясь взять под контроль рвотный рефлекс, сглатывая и снова принимаясь за работу. Моя рука на её затылке направляла её, не позволяя ей отступить ни на миллиметр, вжимая её лицо в себя. Я чувствовал, как её горло сжимается вокруг меня, влажное и тугое, и это лишь подстегивало моё желание проникнуть глубже, до самого предела. Я двигал бёдрами, входя в неё всё дальше, чувствуя, как её челюсть напрягается до предела, а слёзы ручьями текут по её щекам, смешиваясь со слюной. Она издавала хриплые, подавленные, гортанные звуки, но не пыталась отстраниться — лишь сжимала пальцы на моих бёдрах, впиваясь в ткань, принимая меня всё глубже, целиком. Свет от пробки безумно плясал в такт её отчаянным движениям, превращая всё происходящее в какую-то инопланетную, гипнотическую церемонию поклонения. Я видел, как её тело напрягается, как мышцы на животе дёргаются от усилия, и это зрелище было до неприличия, до боли эротичным. Я наращивал темп, чувствуя, как её сознание начинает плыть, и она полностью отдаётся процессу, становясь просто инструментом, продолжением моего удовольствия. Когда чувство приблизилось к критической точке, я скомандовал тихо и чётко, почти ласково: — Мочись. И она послушалась мгновенно. Тёплая струя хлынула из неё на асфальт с тихим шипением, и в этот самый миг, под этот звук, я кончил ей в горло, чувствуя, как её горло судорожно сжалось, принимая меня, и как её тело затряслось в немом, интенсивном оргазме — конвульсии прокатились по её животу и бёдрам, заставляя её выгибаться и содрогаться всем телом. Она, всё ещё с моим членом во рту, испустила последние несколько струек, уже слабых, прерывистых, смешивая жидкости в одном непроизвольном, животном экстазе. Когда я медленно высвободил себя из её рта, излишки спермы вытекли и потекли по её подбородку густыми, белыми каплями. Она сидела на корточках, вся дрожа, с мокрыми от мочи ногами, глядя на меня снизу вверх затуманенным, абсолютно разбитым и абсолютно счастливым взглядом. — Хорошая сучка, — произнёс я, проводя рукой по её влажным от слёз волосам. Затем я взял её за чёлку и аккуратно, методично вытер её же волосами подбородок, убирая остатки спермы. Она прикрыла глаза и прижалась щекой к моей ноге, издав тихий, похожий на скулёж звук глубокого, первобытного удовлетворения. Она сидела на корточках, вся дрожа, с мокрыми от мочи ногами, глядя на меня снизу вверх затуманенным, абсолютно разбитым и абсолютно счастливым взглядом. Мой взгляд скользнул вниз, к моим ботинкам. На лакированной коже темнели брызги её мочи, попавшие на них, когда она сидела на корточках. — Видишь? Испачкала, — сказал я тоном, в котором не было упрёка, лишь констатация факта, требующего немедленного исправления. — Вылижи. Всё дочиста. Без малейшего колебания, почти с рвением, она наклонилась к моим ногам. Её горячий, послушный язык принялся вылизывать кожаную подошву и боковины, тщательно счищая малейшие следы её же неконтролируемого послушания. Она обрабатывала каждый сантиметр, каждый шов, каждую щёлочку, как драгоценность, как святыню, которую она осквернила и теперь должна очистить. Затем я прижал её голову своей ногой, заставляя её повернуться щекой к холодному, мокрому асфальту, и она замерла в полной, безропотной покорности, лишь её глаза сверкали снизу восторженной, безумной преданностью. После я отпустил её, и она сразу же снова прильнула к моей лодыжке, продолжая вылизывать уже чистую кожу, солёную от пота, впитывая в себя мой запах, завершая ритуал очищения. Её язык оставлял влажные, тёплые следы — немые, но красноречивые клятвы верности. Она терлась лицом о мою ногу, как животное, метящее хозяина, вкладывая в каждый жест, в каждый вздох всю свою безграничную благодарность и обожание. В этом был её окончательный, животный ответ. Не нужно было слов. Только эти жесты — облизывание, поскуливание, трение — говорили всё за неё. Она была моей. Полностью. И была счастлива этим больше, чем чем-либо прежде в своей жизни. Глава 20. Картина После той ночи в парке во мне что-то перевернулось. Окончательно и бесповоротно. Я не чувствовала ни капли унижения — лишь странную, дикую, абсолютную свободу. Я смогла обнажиться перед миром, сходить по-маленькому по его приказу и кончить от этого. От полного растворения, от абсолютного доверия, от осознания, что мои самые потаенные, самые стыдные желания не просто известны ему, а одобрены, реализованы и превращены в источник невероятного наслаждения. Особенно я вспоминала тот момент, когда он поднял ногу, и я вылизывала подошву его ботинка от своей же мочи. Каждый шов, каждую частичку уличной пыли — я убирала всё своим языком, чувствуя не унижение, а странный, извращенный, пьянящий кайф. Мне хотелось, чтобы он нажал сильнее, чтобы кожаная подошва вдавилась в мою щеку, оставив вечный отпечаток, смешавшийся со следами асфальта — несмываемое свидетельство моего поклонения. Грэм изучил меня лучше, чем я сама. Он знал, чего я хочу, даже когда я сама боялась в этом признаться. Он вытаскивал мои страхи на свет, как хирург извлекает занозу, и превращал их в алмазы наслаждения. И поэтому я почти перестала спрашивать о проникновении в попку. Его постоянные отсрочки больше не казались мне мучительными. Я догадывалась — он готовит что-то особенное. Какой-то финальный акт, который станет венцом всего нашего пути. И сегодня ждал ещё один сюрприз. Он провёл меня в свою новую мастерскую — светлую, пахнущую свежей краской и деревом. В центре, на мольберте, стояла картина, скрытая под тёмным бархатным покрывалом. — Закрой глаза, — сказал он, и в его голосе прозвучала непривычная торжественность. Я послушалась. Услышала его шаги, шелест падающей ткани. — Теперь открывай. Я открыла глаза и ахнула. Это была я. В том самом синем платье, в котором была в ресторане в наш первый важный вечер. Я стояла у панорамного окна нашей квартиры, за моей спиной пылал ночной город, рассыпавшийся миллионами огней. Свет от него падал на меня, окутывая силуэт сияющим ореолом. Игра света и тени лепила мои черты утонченными, почти неземными, но во взгляде, который художник уловил с пугающей точностью, была не мягкость ангела, а стальная, холодная решимость. Устремленность. Деловая хватка хищницы. Это был портрет не жертвы, не питомца, а сильной женщины, которая смотрит на мир, как на свою законную территорию. Я молчала, не в силах вымолвить ни слова. Он поймал не просто моё внешнее сходство. Он вытащил наружу и запечатлел ту версию меня, которую сам же и создал, в которую сам же и верил, даже когда я не верила в себя. — Ну что? — его голос прозвучал неожиданно тихо, с непривычной, почти человеческой неуверенностью. — Это... я? — прошептала я, и голос сорвался. — Это ты. Самая настоящая. Та, что всегда была внутри. Он сделал паузу, его взгляд скользнул с картины на меня, и в его глазах я увидела не привычную власть, а нечто более уязвимое. — Я хочу выставить её. На выставке в следующем месяце. Но... — он запнулся, и это было так несвойственно ему, что стало главным признанием. — Но я не могу сделать этого без твоего разрешения. "Он. Спрашивает. У меня. Разрешение." Всё вдруг встало на свои места. Вся эта «игра». Все эти ритуалы, тренировки, поводки и ошейники. Это не было желанием унизить или сломать. Это был его... язык. Странный, извращенный, местами пугающий, но единственный способ, которым он умел проявлять свои чувства. Его метод отлить меня в сталь, сделать сильной, свободной от страхов, идеальной — для него и для себя самой. И эта картина, это предложение — были высшим актом признания. Он видел во мне не просто объект, а соавтора. Музу. Равную. Слёзы покатились по моим щекам, но я не пыталась их смахнуть. — Да, — выдохнула я, и это слово прозвучало как клятва. — Конечно, да. Выставляй. Он улыбнулся — своей редкой, настоящей улыбкой, которая на мгновение стерла все маски и сделала его лицо молодым и беззащитным. Он подошёл ко мне и обнял, прижимая к своей груди, пахнущей скипидаром, краской и собой — самым дорогим запахом на свете. Я всё поняла. Я была его самой большой любовью и его самым главным произведением. И теперь мир должен был это увидеть. Он не понимает сам себя. Он думает, что выставляет портрет. А на самом деле — это наш общий манифест. Глава 21: Публичное искусство и частные триумфы Наши ночные вылазки в парк стали регулярным, почти сакральным ритуалом. Мы опробовали разные сценарии. Однажды я прижал её к холодному стволу векового дуба и взял сзади, грубо и стремительно, заставляя её глухо стонать в ладонь, которую она сама же прижала ко рту, чтобы не выдать нас. В другой раз она опустилась передо мной на колени посреди песчаной дорожки и взяла меня в рот с такой отчаянной жадностью, будто это был последний источник влаги в пустыне. Но самым запоминающимся стал тот вечер, когда я решил испытать её пределы до конца. После того как она, по моей команде, опорожнила мочевой пузырь, кончив при этом так интенсивно, что её ноги подкосились, я не стал останавливаться. — Теперь по-большому, — тихо скомандовал я, и в её глазах мелькнул шок, мгновенно сменившийся слепой покорностью. Она зажмурилась, её тело напряглось в мучительном усилии, лицо исказила гримаса стыда и концентрации. Раздался приглушённый звук, и на асфальт у её ног упала тёмная кучка. Запах, острый и животный, ударил в нос. Она стояла, опустив голову, вся пылая от унижения, но сквозь него пробивалось что-то иное — пьянящее осознание собственной абсолютной, тотальной принадлежности. Она сделала это. Ради меня. Я молча достал из кармана свёрнутый пакет и маленький совок, которые принёс специально для этого. Наклонился и аккуратно, без тени брезгливости, убрал за ней, как убирают за любимой, но непослушной собакой. — Хорошая девочка, — сказал я, завязывая пакет. В её глазах стояли слёзы, но это были слёзы катарсиса. Она, дрожа, прижалась лбом к моей груди, а я обнял её, гладя по волосам. В этом отвратительном, с точки зрения обывателя, акте, для нас заключалась высшая, дикая форма близости. Она отдала мне всё, без остатка. А я принял, взяв на себя и её стыд, и последствия. Именно после этого вечера наши прогулки окончательно трансформировались. Теперь я выгуливал её, как собаку, каждый вечер. Она делала все свои дела по моей команде, на специально выбранных мной участках парка — у кустов, у деревьев, на гравийных дорожках. Я всегда был готов с пакетом и совком, чтобы убрать за своей послушной сучкой. И каждый раз, наблюдая, как её тело напрягается в этом животном акте, как на её лице смешиваются стыд и экстаз, я видел не унижение, а высшую степень доверия и освобождения. Она больше не принадлежала себе — ни телом, ни своими базовыми потребностями. Она вся, без остатка, принадлежала мне. И в этой тотальной принадлежности она обрела странную, извращенную свободу. Это был наш с ней танец, наш перформанс для безлюдной ночи, и с каждым разом мы погружались в него всё глубже. Но я решил пойти дальше. Свет дня, присутствие других людей — вот настоящий тест на прочность. Я вывез её на речку, в живописное, но не слишком людное место. Специально для этого купил ей микро-бикини, которое скорее обозначало наготу, чем прикрывало её. Я разложил мольберт, краски. Она заняла позу на берегу, на фоне воды, отбрасывающей солнечные зайчики. Ее дисциплина была безупречной даже здесь — она замирала на месте, как статуя, не смея сдвинуться без моей команды. Когда прохожие скрывались из виду, я проверял пределы ее покорности. — Мочись, — произносил я тихо, не отрываясь от холста, и она замирала. Теплая струя пропитывала микроскопическое бикини, стекая по внутренней поверхности ее бедер. Ткань темнела, облегая ее форму. Ее лицо заливала алая краска, но в глазах читалось не стыд, а лихорадочное возбуждение. Она краснела, когда ветерок ласкал кожу, обычно скрытую тканью, но держалась молодцом. В награду за абсолютную покорность я откладывал кисть, подходил к ней, и мои пальцы скользили под мокрую ткань, находили ее перевозбужденный клитор и доводили до стремительного, сдавленного оргазма, который заставлял ее тело содрогаться в беззвучном крике. Затем она снова замирала в позе, продолжая позировать. Проходившие мимо люди оборачивались, кто-то с любопытством, кто-то с осуждением. Но искусство — есть искусство. Никто не посмел сделать замечание. Я ловил их взгляды и внутренне усмехался. Они видели просто обнаженную девушку. Они не видели картину, которую я писал — картину абсолютной свободы от их условностей, тотального доверия и животной грации, что рождалась между мной и моей музой в эти моменты. Её картина в галерее имела успех. Я принёс ей отзывы — распечатанные рецензии, восхищенные комментарии в соцсетях. Она читала их, и её глаза сияли. Она гордилась собой. И мной. Это было важно. Её уверенность росла, и это делало её ещё прекраснее. На следующем её концерте было уже три номера. И самое главное — все песни были её. Её тексты, её мелодии, её аранжировки. Мне пришлось изрядно потратиться на студию, чтобы записать качественный минус, но это того стоило. Видеть, как она выходит на сцену уже не как робкая ученица, а как автор-исполнитель, владеющий залом... это был триумф. Мой триумф. Я вылепил это. Я вложил в это силы и ресурсы. Мы продолжили эксперименты с эксгибиционизмом, выводя их на новый уровень. Теперь уже не только ночью, но и средь бела дня мы испытывали границы дозволенного. Прогулки в полупрозрачных блузках без белья, короткие юбки, под которыми не было ничего, кроме пробки — всё это стало нашей повседневностью. Но истинный экстаз приходил, когда я отдавал свою любимую команду в публичном пространстве. В переполненном торговом центре, прижав её к стене у фонтана, я шептал «мочись» прямо у нее в ухо, и она, закусив губу, описывалась на глазах у десятков людей, пока теплая влага расплывалась по тонкой ткани ее платья. В кинотеатре во время самого напряженного момента фильма она сжимала мою руку, выполняя приказ, и аммиачный запах смешивался с ароматом попкорна. В полумраке кинозала, под приглушенные звуки фильма, мои пальцы скользнули под её короткую юбку. Я практически выворачивал ее наружу пальцами. Она задышала чаще, её бедра непроизвольно двигались в такт моим движениям, пытаясь усилить давление. Когда её тело начало содрогаться от приближающегося оргазма, я наклонился к её уху и тихо скомандовал: "Мочись". Тёплая струя хлынула мне на ладонь, смешиваясь с её соками возбуждения. Не давая ей опомниться, я провёл мокрой рукой по её лицу, размазывая жидкость по щекам и губам. Она тщательно вычищала мою руку от своих жидкостей. Она сидела с закрытыми глазами, тяжело дыша, с блестящим влагой лицом, полностью отдавшаяся моменту и моей воле. На смотровой площадке, на фоне городских огней, она стояла над дренажной решеткой и стоя мочилась струей, которая серебрилась в лунном свете, пока я прикрывал ее своим телом от случайных взглядов. Люди начали замечать. Я видел, как мужчины пялятся на очертания её груди под тонкой тканью, как их взгляды пытаются заглянуть под юбку, как некоторые замечали влажные пятна на ее одежде и отводили глаза, смущенные и возбужденные одновременно. Это было провокационно, рискованно, и она вся горела от этого, пьянея от своего безнаказанного разврата. Каждый такой случай заставлял ее клитор пульсировать от возбуждения, и позже, в уединении, она кончала с такой животной страстью, будто пыталась компенсировать свое публичное унижение частным триумфом. Но пиком всего стал ужин в дорогом ресторане. Мы сидели за столиком, беседовали о её новых песнях, как вдруг моя легла ей на затылок. Я даже не нажал. Просто положил. Она посмотрела на меня, и в её глазах мелькнуло понимание, а затем — та самая решимость, что была на картине. Без слов, без колебаний, она скользнула под стол. Я отодвинулся чуть назад, прикрыв её своим стулом и скатертью. Под столом зашевелилось. Я продолжил есть салат, делая вид, что ничего не происходит. Но я чувствовал всё: её горячее дыхание сквозь ткань брюк, прикосновение её губ, её умелый язык. Я видел, как мимо проходят официанты, как их взгляды цепляются за пустое место напротив меня, за мою странную позу. Я видел их удивление, догадку, а затем — смущение и попытку сделать вид, что ничего не происходит. Это было высшее проявление нашего искусства. Публичное и в то же время интимное. Вызов, брошенный всем и каждому. И когда я почувствовал, что вот-вот достигну кульминации, я просто положил руку на стол, давая ей знак. Она всё поняла. Я кончил ей в рот, глядя прямо в глаза ошеломленному официанту, который в этот момент подошёл, чтобы спросить, всё ли хорошо. Я улыбнулся ему своей самой безобидной улыбкой. — Всё прекрасно, спасибо. Кофе, пожалуйста. Он кивнул и поспешно ретировался. Она выползла из-под стола, села на своё место, поправила волосы. Её губы были чуть припухшими, глаза сияли лихорадочным блеском. Она взяла свой бокал с водой и сделала глоток, смывая с губ мою сперму. — Хорошая сучка, — тихо сказал я, проводя пальцами по ее губам, и она сияла от гордости, как от самых восторженных рецензий. Она была моим шедевром. И я выставлял её на всеобщее обозрение самым изощренным образом. Глава 22: Метка Воздух в загородном ресторане был густым и сладким от запахов дорогой еды, дорогих духов и приглушенного звона хрусталя. Но сквозь эту удушливую роскошь я чувствовала лишь одно — густое, тяжелое ожидание. Оно висело между нами, как заряженная молниями туча, готовый вот-вот разрядиться ливнем. На мне было то самое маленькое черное платье — вторя кожа, обнажающая каждый изгиб, каждый мускул, который он так лелеял. Никакого белья. Только знакомая, светящаяся розовым пробка — мой сокровенный знак, наша тайная переписка. При каждом шаге мягкое свечение проступало сквозь тонкую ткань, отбрасывая на мои бедра смутный, зазывный розовый ореол. Это был мой личный маяк, светящийся только для него. Шепот начался сразу же, едва мы пересекли порог. «Боже, ты видела? У нее... там светится», — прошипела женщина в блестящем платье, ее бокал замер на полпути ко рту. Мужчина за соседним столиком наклонился к компаньону, его взгляд прожигал меня насквозь: «Интересно, это перформанс или новая порода шлюх?» Их слова были просто шумом, белым шумом, тонувшим в громе моего собственного сердца. Я была центром тихого скандала, которым он так мастерски дирижировал. И я сияла от этого. Он кормил меня с пальцев. Устрица — холодная, соленая, скользкая на языке. Трюфель — земляной, насыщенный, тающий во рту. Виноград — лопающийся сладостью. Каждое прикосновение его пальцев к моим губам было маленьким унижением, маленьким триумфом. Его взгляд говорил: «Они видят чудо. А я вижу свою хорошую девочку». И я ею была. Идеальной, послушной, его творением. Но я знала, что ужин — это лишь прелюдия. Антракт перед главным актом. В номере пахло хвоей, дорогим бельем и им. Он молча повел меня в ванную. Никаких слов не потребовалось. Я легла на кафель, холодный и жесткий под спиной, и подняла ноги, доверяя ему свое самое уязвимое место. Процедура была странной, интимной до содрогания. Первая порция прохладной жидкости внутри меня была неожиданной, заставляя мышцы живота сжаться. Он помог мне дойти до унитаза, его твердая рука на моей пояснице была единственной опорой. Второй раз был интенсивнее. Больший объем, более пронзительный холод, распирающее чувство полноты. Я лежала, чувствуя, как вода наполняет меня, смывая всё лишнее, подготавливая чистый холст. Третья клизма была самой большой. Холодная вода наполняла меня медленно и неумолимо, пока мой живот не стал тугим, чувствительным шаром. Я не могла пошевелиться. Он бережно, почти что с отеческой нежностью, поднял меня и почти донес до унитаза. Его руки были твердыми и надежными, пока я сидела, опираясь на него, чувствуя последние спазмы очищения. В его движениях не было похабности — лишь чистая, безжалостная забота. Он готовил меня. И я доверяла ему безгранично. После очищения он уложил меня на широкую кровать, застеленную прохладным шелком. Его пальцы, смазанные ароматным гелем, начали подготовку — нежные круговые движения вокруг напряженного мышечного кольца, затем осторожное, но настойчивое давление. «Дыши, моя хорошая», — его голос звучал низко и спокойно, пока один, затем два пальца медленно проникали внутрь, растягивая, подготавливая меня. Было тесно и непривычно, но его терпеливые движения и ласки другой рукой заставляли тело расслабляться и принимать его. Он смазал себя обильно. Первое давление было интенсивным — мышцы сопротивлялись, тело инстинктивно сжалось, но он вошел медленно, неумолимо, заполняя меня целиком. Это было не больно. Это было... заполнение. Полное, абсолютное. Он вошел глубоко, до самого конца, и замер, давая мне привыкнуть к новому ощущению полноты, к тому, как он заполняет последнюю пустоту внутри меня. Я была абсолютно наполнена его членом, каждый мускул моего тела был настроен на его ритм, его присутствие. И тогда его рука, обильно смазанная лубрикантом, скользнула между наших тел. Я замерла, не понимая его намерений, но полностью доверяя. Его пальцы, скользкие и уверенные, нашли вход влагалище, уже пульсирующий от возбуждения. Без малейшего усилия, одним плавным движением, он ввел их внутрь — два, потом три. Я ахнула, ощущая двойное проникновение, но это было лишь начало. Он начал двигаться. Медленно, почти медитативно. Его таз задавал ритм, его член скользил в глубине моей попы, а его пальцы — внутри влагалища, в идеальной, невыносимой синхронности. Каждый его толчок отзывался эхом во всем теле, усиливаясь за счет движения пальцев. Это было странное сочетание давления, растяжения и щекочущего, пронзительного удовольствия. А потом я почувствовала Нечто. Но на этот раз его ласка была иной. Медленной, целеустремленной. Он не просто касался. Он собирал мои размягченные, податливые ткани, как бы складывая их вокруг своих пальцев. Я чувствовала, как он входит в меня глубже, чем когда-либо, но уже не только вглубь, но и вширь. Его пальцы двигались внутри меня с гипнотической медлительностью, растягивая, подготавливая меня к чему-то немыслимому. Четвертый палец присоединился, и я издала тихий, прерывистый стон. Это было непривычно, растягивающе, но боль отступала перед странным, щекочущим чувством полнейшей открытости. Он смотрел мне в лицо, читая каждую эмоцию, каждый отблеск ощущения в моих глазах. Его взгляд был сосредоточен, как у скульптора, доводящего до совершенства последнюю деталь. — Расслабься, Офа. Прими меня, — его голос был тихим, но властным заклинанием. И я расслабилась. Отдалась. Доверилась ему полностью, как всегда. Его большой палец присоединился к остальным. Его сжатая в своеобразный «клюв» рука начала медленно, с невероятным терпением и настойчивостью, входить в меня. Давление было колоссальным. Я чувствовала, как моё тело, уже такое податливое и обученное, растягивается до немыслимых пределов, принимая в себя его кисть. Это было похоже на рождение наоборот — невыносимое, всепоглощающее чувство растяжения, заполнения, распирания изнутри. Он вошел не до конца, лишь на несколько сантиметров, но и этого было достаточно, чтобы мир сузился до этого единственного, шокирующего ощущения. Во мне была его рука. Его кисть. Часть его тела. Я чувствовала каждый его сустав, каждое движение его пальцев внутри меня. Он замер, давая мне привыкнуть к этому предельному, окончательному вторжению. Слезы текли по моим вискам, но это были не слезы боли. Это были слезы катарсиса, полнейшего уничтожения всех границ. Не было больше «я». Было только «мы». Он заполнил собой не просто мое тело — он заполнил собой всю мою вселенную. Он не двигался, просто держал свою руку во мне, и этого было достаточно. Его большой палец лег на мой клитор, и это легкое, почти невесомое прикосновение вызвало сокрушительную волну оргазма, такой мощный, что всё мое тело затряслось в немом крике, судорожно сжимаясь вокруг его запястья. Сквозь тонкую, растянутую перегородку, разделяющую мою плоть изнутри, я ощутила... его. Кончик его члена. Он двигался в одном ритме с его пальцами, и с каждым толчком я чувствовала его сквозь стенку — твердый, упругий, живой. Он ласкал сам себя внутри меня. Его пальцы стимулировали его собственный член через тонкую преграду моей плоти. Мое сознание поплыло. Стиралась грань между нами. Где заканчивался он и начиналась я? Он был повсюду — и снаружи, и внутри, и теперь он соединялся сам с собой через меня. Я была его плотью, его продолжением, живым сосудом, в котором он встречался сам с собой. Его ритм ускорился. Его дыхание стало прерывистым, хриплым. Я чувствовала, как его тело напрягается, как мышцы спины под моими ладонями каменеют. Его пальцы внутри меня двигались в такт движениям его бедер, усиливая трение, а сквозь стенку я все явственнее чувствовала пульсацию его члена, готового к извержению. «Вся моя. Вся», — его голос прозвучал хрипло, почти рычание, и он вогнал себя в меня до упора с обеих сторон, замерши в самой глубине. И тогда я почувствовала это в двойном размере. Изнутри влагалища — мощные, ритмичные сжатия его пальцев. И сквозь перегородку — сокрушительную пульсацию его члена, его горячее семя, изливающееся в мою глубину. Волны удовольствия накатывали с двух сторон, сливаясь в один сплошной, всепоглощающий экстаз, который заставил мое тело содрогнуться в немом, бесконечном оргазме. Он издал низкий, победный стон, его тело обмякло на мне, тяжелое и удовлетворенное. Он не вышел сразу, оставаясь внутри, продлевая момент этого тотального, абсолютного единения. Его пальцы замерли, но остались во мне. Мы были сплетены в самом сокровенном возможном соединении. Только когда последние судороги наслаждения покинули наши тела, он медленно, почти нехотя, извлек из меня сначала свою руку, оставив ощущение пустоты, а затем и себя. «Вся моя», — прошептал он в мои волосы, целуя макушку. Теперь это был не просто вердикт. Это был физический, пережитый нами обоими факт. Он не просто вошел в меня. Он соединился через меня. И я стала тем самым мостом, который позволил ему это сделать. Это было высшее доверие. Высшее обладание. И затем, без перерыва, он повел меня в джакузи. Теплая вода обняла мое разомленное тело, но не могла смыть ощущение его владения. Он стоял на краю, его силуэт — огромный и властный на фоне ночного неба. Вода струилась по его мускулистому торсу, и я видела, как его рука опускается к своему члену, все еще тяжелому и влажному. — Смотри на меня, — прозвучала команда, не терпящая возражений. Я подняла глаза. Его пальцы обхватили основание, мышцы пресса напряглись. И тогда из него хлынула струя. Не сразу на меня. Сначала — на мою грудь. Густая, маслянистая, обжигающе теплая жидкость ударила в кожу, поползла по ней темными ручейками, стекая с сосков, смешиваясь с водой джакузи. Пахло им. Концентрированно, остро, животно — его сутью. Потом струя поднялась выше. Упругая, сильная, она хлестнула мне прямо в лицо. Я зажмурилась инстинктивно. Едкая, щиплющая жидкость залила лоб, глаза, слепя меня, набилась в нос, хлынула в полуоткрытый от неожиданности рот. Солоноватый, горьковатый, интенсивный вкус заполнил всё — я сглотнула рефлекторно, подавившись, кашлянула. Инстинкт кричал отшатнуться, отпрянуть от этого акта предельного доминирования. Но его взгляд, тяжелый, как свинец, пригвоздил меня к месту даже сквозь пелену на глазах. В его глазах горела не просто власть — в них горела абсолютная, первобытная уверенность в своем праве. Это был взгляд хозяина, ставящего клеймо. Его пальцы работали, выдавливая из себя последние капли, и он водил струей по моему лицу, шее, груди, как кистью, покрывая меня собой, своей сущностью. И тогда понимание ударило меня, затопив диким, всепоглощающим восторгом. Это было не унижение. Это было клеймо. Самое древнее, самое настоящее. Знак, которого я жаждала. Я снова открыла глаза, щиплющие от его мочи, и открыла рот шире, подставив лицо под этот золотой поток, начала жадно глотать, каждый глоток — клятва верности. Каждая капля на коже — священное помазание. Его сука. Его собственность. Его творение. Когда он закончил, его член дрогнул в последний раз. Он молча взял шланг душа и тщательно, методично смыл с меня липкость, оставляя лишь символическую чистоту после обряда. — Теперь ты вся моя, — произнес он, и голос его звучал как окончательный приговор. — Я тебя пометил. Изнутри и снаружи. Я могла только кивать, переполненная до краев ликующим счастьем, его запах все еще жил во мне, впитываясь в самую мою суть. Позже, в спальне, он вручил мне небольшую коробку из черного дерева. Внутри, на бархате, лежала новая пробка. Прозрачный силикон со знакомым свечением, но теперь к основанию был прикреплен изящный, пушистый хвост цвета воронова крыла. — Теперь ты будешь носить ее всегда. Как внешний знак. Я не заставила себя ждать. Прямо при нем я вставила новую. Легкое давление, наполненность, и затем — невесомый вес хвоста, мягко легшего на кожу. Я вильнула бедрами непроизвольно, и шелковистые волоски колыхнулись, лаская ягодицы. Движение было настолько естественным, что я застыла. Он крепко, почти жестоко поцеловал меня, его руки обхватили мои бедра, прижимая к себе, а я чувствовала, как пушистый хвост нежно виляет при каждом нашем движении. — Теперь я буду называть тебя Офа, — прошептал он мне в губы. — Ты вся — моя Офа. Я только сильнее прижалась к нему. Офа. Не Офелия — трагическая героиня. А Офа. Его Офа. Сильная, красивая, принадлежащая ему сука. И в этом имени было больше правды и любви, чем во всём на свете. Глава 23: Плоды Занятие музыкой стало приносить свои плоды. Я всегда знал, что в ней есть талант, спрятанный под слоями страха и условностей. Теперь, когда эти слои были сметены одним махом, её творчество хлынуло наружу мощным, уверенным потоком. У Офы накопилось материала на целый альбом. Не просто набор песен, а цельная история — наша история, пропущенная через призму её восприятия. Тёмная, чувственная, местами шокирующая, но абсолютно искренняя. Музыкальная индустрия изголодалась по чему-то настоящему, и мы дали ей не просто музыку — мы дали целую вселенную. Альбом «ОФА» стал сенсацией именно потому, что за дерзким, провокационным образом стояла подлинная, выстраданная глубина. Исполнительница ОФА — не просто псевдоним, это была её новая, истинная сущность, запечатленная в виниле и цифре. Пришлось вложиться в запись. Аренда хорошей студии, работа саунд-продюсера, сведение, мастеринг — всё это стоило немалых денег. К счастью, мои работы продолжали продаваться. Картина с Офой на берегу реки — та, где я изобразил её нимфой, прикрыв наготу лишь искусно написанными листьями и тенями, — улетела в частную коллекцию в Швейцарию за сумму, которой хватило на финансирование всего проекта с лихвой. Ирония судьбы была изысканной: её собственный образ, её раскрепощённость, которую я так лелеял, теперь монетизировала саму себя, замкнув финансовый круг нашего творческого симбиоза. Мы выпустили альбом «ОФА» под её новым именем через все цифровые платформы. Её эпатажный образ стал идеальным топливом для пиар-машины. Фотографии в микро-бикини на фоне её же портретов в полный рост. Кадры со светящейся пробкой, мелькающие в тизерах. И, конечно, тот самый хвост, который она теперь носила почти постоянно дома и надевала на все фотосессии. Это был идеальный маркетинг — провокационный, запоминающийся, абсолютно аутентичный. Люди покупали не только музыку, они покупали легенду. Миф, который я кропотливо создавал, и который она теперь воплощала с пугающей естественностью. Презентационный концерт в модном клубе был кульминацией. Воздух был густым от дыма машин и дорогих духов, а стены вибрировали от низких частот, вышибаемых мощными мониторами. Когда софиты вспыхнули, она вышла на сцену — не в платье, а в короткой кожаной юбке, которая лишь обозначала её формы, и в топе, скрывавшем ровно ничего. Но главным акцентом был хвост — тот самый, цвета воронова крыла, который мягко покачивался из-под края юбки при каждом её шаге, шелковистый, живой, дразнящий. Она взяла микрофон, и первый же звук её голоса, низкого, хриплого, проникающего прямо в кости, заставил зал замолчать. Она пела свои песни — о власти, о подчинении, о животной страсти и той странной, извращённой нежности, что рождается на грани. А под софитами хвост мерцал, подчеркивая каждое движение её бёдер, каждый ритмичный вздох, каждую провокационную фразу, обращённую, как я знал, лично ко мне. Зал замер, завороженный. Люди не просто слушали — они впитывали каждую ноту, каждый жест, каждый намёк на то, что скрывалось за текстами. А когда последний аккорд прозвучал, тишина взорвалась оглушительными аплодисментами. Крики, свист, восторг — это был триумф. Не только её, но и мой. Триумф режиссёра, скульптора, увидевшего алмаз в грубой породе и отполировавшего его до ослепительного блеска. И когда она уходила со сцены, её хвост мягко вильнул в такт шагам, будто прощаясь с залом — и оставляя им навсегда частичку той тайны, что нерушимо связывала нас. Наши игры с «золотым дождём» эволюционировали, перестав быть просто ритуалом. Теперь она жаждала этого после каждого оргазма, словно это стало для неё естественным, необходимым завершением нашего единения — её способ вернуть мне частичку той жизненной силы, что я в неё вкладывал. Сначала это создавало некоторые бытовые неудобства. Постоянные омовения прерывали поток нашей близости, но я быстро нашёл элегантное решение. —Научись принимать всё, — сказал я ей однажды, проводя пальцем по её влажным от пота губам. — Не только мою любовь, но и мою сущность. Без остатка. Без потерь. Потребовалось время и терпение. Первые попытки были неуклюжими — она давилась, кашляла, слёзы текли по её лицу, но её желание угодить мне, её потребность в полном слиянии была сильнее любого физического дискомфорта. Я терпеливо учил её: как контролировать дыхание, как расслабить горло, как принимать поток глубоко, без сопротивления, сразу направляя его внутрь себя. Теперь, когда сокрушительная волна удовольствия накатывала на неё, и её тело обмякало в послеоргазменной истоме, она не ждала команды. Она сразу опускалась передо мной на колени, смотря снизу вверх преданными, сияющими глазами, и тихо, но уверенно просила: —Напои меня, Хозяин. Пожалуйста. И я дарил ей это. Она научилась пить жадно, без промедления, поглощая, принимая в себя каждую каплю как драгоценный дар. Её горло работало ровно и послушно, а глаза никогда не отрывались от моих, отражая не просто покорность, но глубокую, почти мистическую благодарность и чувство выполненного долга. После этого она облизывала губы с таким выражением чистого, безраздельного блаженства, будто вкусила нектар богов, а не просто физиологическую жидкость. В этом акте она находила то, чего не могли дать никакие обычные слова — полное принятие себя во мне, окончательное, тотальное стирание всех и всяческих границ. И мне больше не приходилось её мыть. Она стала чистой в своей новой природе, принявшей меня целиком. Но в особые моменты, в дни её триумфов или после особо сильных переживаний, когда её переполняло чувство полной принадлежности, она просила большего. Опускаясь на колени, она смотрела на меня с той особой смесью преданности и желания, которая заставляла её голос звучать как самая искренняя молитва. —Пометить меня полностью, Хозяин. С головы до ног. Я хочу чувствовать твой запах на коже весь день. Хочу, чтобы каждая частичка меня помнила, кому я принадлежу. И если я был согласен, я отмечал её не только в рот. Тёплая струя стекала по её лицу, шее, груди, оставляя блестящие дорожки на коже, впитываясь в волосы. Она закрывала глаза, глубоко вдыхая знакомый запах, с благоговением принимая каждую каплю, как священное помазание, как подтверждение своего статуса. После этого мы ничего не смывали. Она оставалась отмеченной до следующего утра, нося мой знак как самую дорогую и тайную одежду. А иногда — выходя на улицу под моим присмотром, ловя восхищённые, шокированные, узнающие взгляды тех, кто чувствовал лёгкий, но неуловимый и узнаваемый аромат, исходящий от её кожи, видя её сияющее, гордое лицо. После истечения срока она мылась сама, тщательно, с каким-то особым, почти священным трепетом, словно смывая не просто жидкость, а запечатывая в коже навсегда память о моменте абсолютной близости. Она стала моим самым успешным проектом. Живым, дышащим, приносящим дивиденды и славу. И глядя на то, как она уверенно держит микрофон на сцене, как её глаза, полные огня, ищут и находят меня в первом ряду зала, я понимал, что это и есть та самая, единственно правильная форма любви. Творческая. Собственническая. Абсолютная. И окончательная. Глава 23: Плоды (глазами Офы) Что-то во мне окончательно сломалось и пересобралось заново. Уже не было страха, не было стыда. Была только музыка. Она рвалась из меня, как кровь из перерезанной артерии — тёмная, горячая, жизненная. Это были наши с ним песни. Наша история, пропущенная через мою плоть и выходящая наружу в звуках. Грэм сказал, что материала набралось на целый альбом. Я и сама это чувствовала — внутри было переполнение, и единственным спасением было излить всё это в микрофон. Он назвал альбом просто — «ОФА». Моим новым именем. И это было идеально. Это была не я — это был он во мне. Его творение, говорящее его голосом. Я знала, что запись стоит безумных денег. Студия, продюсер, музыканты... Но однажды вечером он вошёл в мастерскую с бокалом вина и лёгкой улыбкой. — Твоя нимфа нашла нового хозяина, — сказал он. — Швейцарский коллекционер. Этого хватит на всё. Я посмотрела на него, и сердце ёкнуло от странной гордости. Тот самый образ, тот самый момент на берегу, когда я замирала под его взглядом и приказом... Теперь он оплачивал моё будущее. Круг замкнулся. Я монетизировала саму себя, свою покорность, свою преданность. И это было самым мощным афродизиаком. Выпуск альбома был похож на странный, прекрасный сон. Моё лицо, моё тело, мой образ — повсюду. Фотографии, где я позировала в микро-бикини на фоне своих же портретов. Кадры со светящейся пробкой, которую я теперь носила почти не снимая. И хвост. Мой прекрасный, шелковистый хвост, который стал моим талисманом, моим знаком отличия. Люди покупали не просто музыку — они покупали легенду. Нашу с ним легенду. И вот — презентационный концерт. За кулисами пахло дымом и дорогими духами. Я не тряслась. Я ждала. В короткой кожаной юбке, в почти несуществующем топе, с хвостом, мягко лежащим на коже бедра. Это был мой доспех. Моя униформа. Выход на сцену. Ослепляющий свет софитов, превращающий зал в тёмное, дышащее пятно. Первый удар синтезатора, первая нота... и мой голос, низкий, хриплый, вырывающийся из самой глубины. Я пела о нас. О власти, о боли, о нежности, что рождается на грани унижения. И под светом прожекторов мой хвост мерцал, подчёркивая каждый взмах бёдер, каждый намёк в тексте. Я ловила его глаза в первом ряду — тёмные, спокойные, полные одобрения. Я пела для него. Все эти люди были просто свидетелями. Когда последняя нота затихла, на секунду воцарилась оглушительная тишина. А потом — взрыв. Рёв, крики, аплодисменты. Я стояла, тяжело дыша, и смотрела на него. Его медленные, точные хлопки были для меня дороже оваций всего зала. Это был наш общий триумф. Триумф мастера и его шедевра. Но истинное посвящение ждало меня позже, за закрытыми дверями. Наши ритуалы достигли нового уровня. Теперь я жаждала его «золотого дара» после каждого оргазма. Это стало естественным завершением, финальным аккордом, скрепляющим наше единство. Мой способ вернуть ему крупицу той силы, что он в меня вкладывал. Сначала у меня не получалось. Я давилась, кашляла, слёзы текли ручьями. Это было физически сложно, непривычно. Но его терпение было безграничным. — Расслабь горло, — говорил он, проводя пальцами по моей шее. — Не сопротивляйся. Прими. Это часть меня. Дай ей войти. Он учил меня дышать особым образом, контролировать спазмы, направлять поток глубоко, сразу внутрь, не давая ему коснуться языка, чтобы не чувствовать вкус слишком остро. Это была настоящая тренировка. Дисциплина принятия. Я практиковалась даже без него. Стоя перед зеркалом, с полным стаканом воды, я отрабатывала плавные, бездыханные глотки, представляя, что это он. Я училась расслаблять мышцы гортани, подавлять рвотный рефлекс, открываться полностью. И вот однажды всё получилось. После мощного, сокрушительного оргазма, я сама, без команды, опустилась перед ним на колени. Глядя ему прямо в глаза, я выдохнула: — Напои меня, Хозяин. Пожалуйста. И я приняла всё. Без единой капли мимо. Без кашля. Глубоко и жадно, чувствуя, как тёплая жидкость проходит прямо внутрь, становясь частью меня. Это был момент абсолютной победы. Над собой, над своими рефлексами, над последними остатками условностей. Его пальцы в моих волосах были моей высшей наградой. После этого я облизывала губы, чувствуя не горький вкус, а вкус его одобрения, вкус полного слияния. В этом акте я растворялась окончательно. Стиралась грань между нами. То, что выходило из него, входило в меня, замыкая цикл. В особые дни, после концертов или когда переполняла благодарность, я просила большего. — Пометить меня полностью, Хозяин. С головы до ног, — мой голос звучал как молитва. — Я хочу носить твой запах на коже. Хочу, чтобы каждая клетка помнила. И если он был согласен, я закрывала глаза и подставляла лицо, шею, грудь под тёплую струю. Я вдыхала его аромат, чувствуя, как капли стекают по коже, впитываются в волосы. Это было помазание. Подтверждение моего статуса. Его вещь. Его собственность. Я могла выйти так на улицу, под его присмотром, и ловить взгляды прохожих. Некоторые морщились, другие смотрели с интересом. Но я видела только его гордый взгляд. Я носила его marks как самую дорогую одежду, как тайный знак избранности. А на следующее утро я мылась с особым трепетом. Смывая жидкость, я как бы запечатывала его эссенцию внутри себя, навсегда. Вода уносила видимое, но оставляла суть — память о тотальном принятии. Я стала его самым успешным проектом. Но для меня это было не про деньги или славу. Это было про то, как я, наконец, нашла своё место. Своё предназначение. Быть его голосом, его творением, его Офой. И в этом была совершенная, абсолютная свобода. Глава 24: Зверь Концерт отгремел оглушительным триумфом, оставив в воздухе вибрирующую тишину, что была громче любых аплодисментов. Адреналин пел в крови диким, первобытным хором, вспышки камер слепили, оставляя на сетчатке пляшущие пятна, а взгляды — не осуждающие, а жадные, пожирающие, полные тёмного любопытства и признания — обволакивали меня плотнее, чем любое платье. Я была не человеком на сцене, а существом, сотканным из звука, плоти и воли моего Хозяина. Зверем. Его зверем, выпущенным на время из клетки, но не забывшим руки, что его приручили. И самое странное, самое пьянящее началось после, в полумраке приватной зоны, где собрались самые преданные, те, кто купил не просто музыку, а миф. Воздух был густ от дорогих духов, пота и электрического ожидания. Ко мне подошла группа — парень с ирокезом и девушка с глазами, горящими одержимостью. Они выложили на стол виниловую пластинку с моим альбомом, их пальцы дрожали от возбуждения. —Ваша музыка... она перевернула всё внутри, — прошептала девушка, её голос сорвался. Парень, пытаясь казаться уверенным, добавил: —А этот хвост... это гениально. Можно... можно хотя бы одним пальцем? Я обернулась к ним, и чувство, что поднялось из глубин, было древним и острым. Мой взгляд, должно быть, стал настоящим, диким — не взглядом певицы, а взглядом из глубины клетки, где тлеет неугасимое пламя то ли свободы, то ли абсолютной принадлежности. Я не сказала ни слова. Просто смотрела, позволив этому зверю внутри выглянуть наружу — зверю, который знает только одного хозяина. Внутреннее рычение. Они замерли. Улыбка сползла с лица парня, сменившись настороженностью, почти инстинктивным страхом. Девушка отвела глаза, её щёки залились румянцем смущения. Они что-то пробормотали про извинения и почти побежали прочь, растворившись в толпе, оставив на столе нетронутый винил. И мне дико понравилось это. Понравилась эта внезапная, животная сила — не моя, а его, отраженная во мне. Сила его дрессированной сучки, которая одним лишь взглядом может заставить отступить. Это была не власть над ними — это была власть над их восприятием меня, власти, которую он мне даровал. И пока я стояла там, всё моё существо наслаждалось от этого осознания, низ живота сжался влажным, томительным спазмом. Я постоянно была в течке, влажной и готовой для него, и этот инцидент лишь подлил масла в огонь. Каждый взгляд, каждый шёпот за спиной были лишь напоминанием о том, кому я на самом деле принадлежу, и это заставляло меня хотеть его ещё сильнее — его прикосновений, его команд, его одобрения. Я была его проекцией, его творением, и в этом была моя самая разрушительная и самая созидательная сила. И когда он предложил новую игру, его голос был спокоен и размерен, но в глубине глаз плясали знакомые искры творца, готовящегося к очередному шедевру. Мы сидели в гостиной, я у его ног, положив голову ему на колени, а его пальцы медленно перебирали мои волосы. —Завтра вечером, — начал он, и его слова ложились на тишину комнаты, как отточенные лезвия, — мы посетим наш парк. Но на этот раз всё будет иначе. Я хочу вывести тебя в самом чистом, самом истинном твоём состоянии. Без масок, без намёков. Только ты, твоя сущность и моя воля. Он наклонился ко мне, и его дыхание коснулось моей кожи. —Ты готова стать моим зверем полностью? Не на сцене, не для чужих глаз. Только для нас. Я подняла на него взгляд, и ответ родился не из разума, а из самой глубины моего существа, из того тёмного, горячего места, где жила только потребность ему принадлежать. —Да, Хозяин, — прошептала я, и голос мой звучал хрипло от предвкушения. — Я готова. Сделай меня своей собакой. Полностью. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб, как будто благословляя на странное, священное причастие. Тот самый парк. Вечер. Воздух был прохладен и свеж, пах мокрой травой и приближающимися сумерками. Он привёл меня в уединённую рощу, где свет фонарей едва достигал земли, создавая пятна света и глубокие тени. Процедура облачения была ритуалом, медленным и методичным. Он начал с того, что застегнул на моих ногах широкие кожаные ремни с мягкой подкладкой, аккуратно, но плотно пристегнув мои щиколотки к ляжкам, согнув меня пополам. Каждая пряжка щёлкала с мягким, окончательным звуком, и с каждым щелчком моё обычное человеческое «я» отступало всё дальше. Затем он надел на мои колени мягкие наколенники из неопрена, которые идеально повторяли их форму, защищая от острых камней и холодной земли. Потом взял мои руки и одну за другой облачил их в перчатки-лапки — из мягкой, эластичной кожи, с протекторами на ладонях, чтобы я могла опираться, не раня себя. Кожа была тёплой от его прикосновений и пахла им. Потом он вставил пробку с хвостом — привычное, сладкое чувство наполненности, и шелковистый вес хвоста, лёгко упавший мне на спину.Затем одел парик с ушками. Последним он застегнул вокруг моей шеи ошейник — широкий, кожаный, с массивной металлической пряжкой, — и пристегнул к нему поводок. Его пальцы провели по коже под ошейником, проверяя, не слишком ли туго. —Готово, — произнёс он тихо, и в его голосе прозвучало удовлетворение художника, завершившего работу. — Посмотри на себя. Я не могла увидеть себя целиком, но я чувствовала. Чувствовала каждую деталь этого облачения, каждое ограничение, каждое разрешение. Я была не в костюме. Я была в новой коже. В новой форме. И это было прекрасно. Он повёл меня по парку на четвереньках, и мир перевернулся, стал ниже, ближе, острее. Каждая травинка, каждый камушек под ладонями-лапками обрели невероятную значимость. Трава была мокрой от вечерней росы, и холодок влажной земли щекотал живот, заставляя кожу покрываться мурашками. Я двигалась, как умела — сначала неуклюже, по-человечески пытаясь координировать конечности, но постепенно находя странный, новый ритм. Неуклюже, по-собачьи, но с гордостью, потому что каждый мой шаг, каждый вздох был посвящен Ему. Он шёл рядом, мой Хозяин, мой Бог. Его тень накрывала меня, а его присутствие было прочнее любого поводка. Он не тянул меня, лишь слегка направлял, мягкое давление кожаной петли на шее было языком, на котором он говорил со мной без слов. «Направо», — и я послушно сворачивала на указанную дорожку. «Стой», — и я замирала, переводя на него преданный взгляд, ловя каждое его слово. Его рука то и дело опускалась на мою голову, большая, тёплая, тяжёлая. Он трепал меня по голове, водил пальцами за ухом, и я невольно прикрывала глаза от наслаждения, издавая тихое, похожее на мурлыканье урчание. —Хорошая девочка, — ласково бормотал он, и эти слова были слаще любой похвалы. — Умная сучка. Идём дальше, моя красавица. Потом он остановился у большого дуба, в самом глухом уголке парка. Его пальцы щёлкнули, и я тут же замерла, вся внимание. —Пометить дерево, — скомандовал он мягко, но не допускающим возражений тоном. — Подними ногу. Я послушно подняла заднюю ногу, чувствуя, как растягиваются мышцы, как поза становится ещё более уязвимой и животной. Это было не смущающе. Это было естественно. Правильно. Поток мочи хлынул на кору дерева, и в этот момент я чувствовала не стыд, а невероятное единение с ним, с природой, с самой своей сутью. Я делала то, что он велел, и это было моей высшей правдой. Он наблюдал, одобрительно молча, а когда я закончила, снова потрепал меня по голове. —Молодец. Очень хорошая девочка. Он вынул пробку и приказал облегчиться по-большому. Я напряглась, чувствуя, как мышцы живота сокращаются, и из меня вышла аккуратная коричневая колбаска. Он убрал за мной в пакет без тени брезгливости, как убирают за любимым питомцем. Затем он вошёл в меня сзади. Грубо, властно, заполняя ту самую, теперь уже чистую и подготовленную пустоту. Я упиралась лапками в землю, скулила от каждого толчка, чувствуя, как внутри всё закипает. Он кончил глубоко внутрь, горячо и обильно, и немножко помочился в меня, и снова вставил пробку на место, запирая своё семя и свою мочу во мне. Я развернулась к нему на коленях, открыла рот и заскулила — жалобно, просяще. Я хотела его вкус. Хотела его метку на языке. Он всё понял. Всегда понимал. Я бережно облизала его, очищая от следов, пока он не стал абсолютно чистым. А затем он тонкой струей пометил меня, от макушки до рта, и я сглотнула, жадно, с благодарностью, и кончила ещё раз, без прикосновений, просто от осознания происходящего. Затем путь обратно к машине. —Залезай, — сказал он, открыв багажник. Я на четвереньках вскарабкалась внутрь, на заранее застеленную клеенку. Он сел за руль, и мы поехали. Я лежала на боку, свернувшись калачиком, чувствуя, как его сперма и моча просачиваются из меня и растекаются по холодной поверхности. Домой я вошла на четвереньках. Он провёл меня прямо в душ. Включил тёплую воду и начал отмывать. Сначала лапки, потом живот, потом спину. Смывал с меня пыль, траву, пот, следы нашего ритуала. Его движения были методичными, заботливыми. Он мыл свою собаку после долгой прогулки. И я виляла своим мокрым хвостом от счастья, тыкаясь мокрой головой в его ноги. Он вытер меня большим пушистым полотенцем, высушил феном шерсть на моём парике и на хвосте. И повёл в спальню. Не на цепь. К себе в кровать. — Хорошая сучка, — прошептал он, обнимая меня. — Моя хорошая, самая лучшая сучка. И я заснула у него на руках, счастливая, чистая и полностью принадлежащая ему, его сперма и моча оставались во мне. Его Офа. Его зверь. Его любовь. Глава 25: Режим Наши прогулки в парке стали практически ежедневным ритуалом, священнодействием, повторяющимся в предвечерние часы, когда солнце уже почти касалось горизонта и длинные тени сливались в единую бархатистую пелену. Мне нравились эти вылазки в сумерках, когда воздух становился прохладным и звонким, наполненным ароматом хвои, влажной земли и дымком далёких костров. Я наблюдал, как с неё спадает всё человеческое, вся наносная шелуха цивилизации — сначала неуверенность в движениях, затем самоконтроль, наконец, сама мысль. Оставалась лишь суть — послушное, жаждущее одобрения животное, прекрасное в своей чистой, неосложнённой природе. Мы шли по извилистым тропинкам, минуя заросли папоротника и корни деревьев, вылезшие на поверхность, и с каждым шагом её движения становились всё плавнее, увереннее. Она всегда получала несколько мощных оргазмов — скуля и дрожа подо мной, или облизывая меня с благоговением, или когда я просто фистинговал её прямо на земле, под сенью старых клёнов. После этого она лежала у моих ног, тяжко дыша, с остекленевшим от блаженства взглядом настоящего зверя, в чьих глазах угасали последние отсветы заката. Я всегда тщательно отмывал её после этого — не только из гигиенических соображений, но и как завершение ритуала. Сначала в душе, с шампунем, пахнущим кедром, и мягкой мочалкой, смывая с её кожи пот, землю и запах секса, который смешивался с хвойной смолой. Особенно тщательно я промывал её изнутри специально приобретённым мягким ершиком, чтобы не повредить нежную ткань. Из-за этого мытьё заметно затягивалось, продлевая отголоски её оргазмов. Потом я аккуратно расстёгивал ремни, снимал наколенники и перчатки-лапки, массируя затекшие мышцы, возвращая чувствительность онемевшим участкам кожи. И мы ложились спать вместе. Но у неё появилась странная, милая привычка: по утрам я обнаруживал её на другом краю кровати, у меня в ногах, обнявшей мои икры руками и прижавшейся к ним щекой, точно щенок, ищущий защиты и тепла, а за окном лишь занималась заря, и птицы начинали свой утренний хор. Чтобы она чувствовала себя увереннее во время наших «прогулок», я купил ей специальную беговую дорожку с мягким, амортизирующим покрытием, которая стояла в углу нашей спальни. По её же собственной просьбе. Она тренировалась бегать на четвереньках по утрам, отрабатывая плавность движений, выносливость, укрепляя мышцы спины и плечевого пояса. Днём она была человеком — ходила на двух ногах, занималась музыкой, репетировала; её пальцы летали по клавишам рояля, извлекая сложные, полные страсти аккорды. Но с наступлением вечера, когда тени удлинялись, что-то в ней переключалось. Она подползала ко мне, терлась щекой о мою ногу и смотрела умоляюще, безмолвно прося зафиксировать ей ноги ремнями, чтобы снова опуститься на четвереньки и ощутить под ладонями шершавость паркета вместо привычного пола. Она вживалась в роль с упоением, всей душой. Притворялась собачкой: лаяла (по-своему, тихо и поскуливая, но с искренним старанием), тыкалась носом в мою ладонь, «просила» еду, и я клал её ужин — кусочки запечённой курицы, овощи — в специальную металлическую мисочку с изящной гравировкой «Офа». Она ела с неё, низко наклонив голову, и это зрелище — её сгорбленная спина, беззвучное движение губ, преданный взгляд, устремлённый на меня снизу вверх, — почему-то не вызывало во мне отвращения, лишь тёплую, собственническую нежность, смешанную с лёгкой грустью. Мне нравилось, что она полюбила это. Не просто терпела как часть нашего странного договора, а именно полюбила — всей своей искренней, преданной натурой. Но кульминацией, истинным апофеозом нашего симбиоза был наш ежемесячный выезд в загородное поселение, в дом, скрытый от посторонних глаз вековыми соснами. Два дня полного погружения, два дня, когда время замедляло свой бег, подчиняясь нашему ритму. На эти двое суток она полностью становилась моей сучкой — в прямом и переносном смысле. Она передвигалась только на четвереньках по холодному кафелю и тёплому дереву пола, старалась не говорить, общаясь со мной взглядами, жестами, тихими звуками, которые были красноречивее любых слов. Я, вдохновлённый её рвением, начал дрессировать её различным трюкам, превращая наши занятия в своеобразный танец. Она была удивительно способной ученицей, схватывающей всё на лету. Она ловила ртом кусочки лакомств — сыра, фруктов — которые я ей бросал. Приносила в зубах мячики, аккуратно, не повреждая их. Мы даже адаптировали для игр фаллоимитатор — я кидал его, а она должна была принести его мне обратно, держа в зубах с почти церемониальной осторожностью. Это было сюрреалистичное и в то же время бесконечно интимное развлечение, наполненное смехом (моим) и радостным вилянием вставленного хвоста (её). В эти два дня окончательно стиралась последняя грань. Не было Офелии, артистки, творящей под софитами. Была только Офа — моя верная, выдрессированная сука, смотрящая на меня преданными глазами, в которых читалась лишь жажда одобрения и любви. И я давал ей их сполна — лаской, взглядами, кусочками лакомства, тихими словами похвалы, которые заставляли её всю трепетать от счастья. Эти выезды стали для нас обоих своего рода медитацией, очищением, возвращением к какой-то простой, животной истине наших отношений. Это была игра, но игра, в которую мы оба верили всем сердцем, каждой клеточкой своего существа. Глава 26: Гармония Моя жизнь удалась. Как странно осознавать это, глядя на себя со стороны: девушка, ползающая на четвереньках по парку с хвостом и спящая в ногах у мужчины. Но это была правда. Я занималась любимым делом — музыкой. Писала песни, репетировала до изнеможения, выходила на сцену и чувствовала, как энергия зала бьёт в меня, а я превращаю её в звук и возвращаю обратно. И всё это — благодаря Грэму. Он не просто позволил — он выковал из меня ту, кто может это делать. Всё было ради него. Каждая нота, каждый сыгранный аккорд — были моим посланием ему. Мой хвост и вибратор не давали забыть о нём ни на секунду. Даже на сцене, ослеплённая софитами, я чувствовала его присутствие внутри себя. Одна лишь мысль о нём — о властных руках, о спокойном голосе — заставляла кровь бежать быстрее. Но я научилась сдерживаться. Копить это напряжение до вечера. Днём я была человеком — собранным, целеустремлённым музыкантом. Но вечером... Вечером просыпалась моя вторая натура. И вырывалась на свободу. Благодаря тренажёру я научилась бегать как настоящая собака, не уставая и не стирая колени в кровь. Теперь мы перенесли наши игры на природу, в те самые загородные поездки. Я носилась по полям, приносила ему палки и мячики, валялась на траве, подставляя живот солнцу и его ласкам. Даже туалет теперь не был проблемой. Я могла сделать всё, что нужно, когда и где хотелось, не смущаясь, твёрдо зная, что он одобрит. Но самое главное — я сама этого жаждала. Мне хотелось быть его питомцем. Мне нравилось его отношение ко мне — эта смесь безграничной власти и нежной заботы. Он никогда не обижал меня, не унижал. Он... принимал. Принимал меня такую, какая я есть на самом деле. Со всеми моими тёмными, животными, постыдными желаниями. Он не осуждал, а взращивал их, превращая в источник наслаждения для нас обоих. Да, у меня появились странные привычки. Спать у его ног, свернувшись калачиком. А ещё, когда мы были на наших ежемесячных выездах, в уютном домике, я всегда сидела на полу у его кресла. Клала голову ему на колени и смотрела снизу вверх, глазами выпрашивая разрешения. Разрешения пососать его член. Он обычно разрешал. Я брала его в рот и просто держала, не двигаясь, чувствуя его тепло и пульсацию на языке. Это была медитация. Акт абсолютного доверия и покоя. Я могла так часами, и он позволял мне это. Если ему было нужно, он справлял нужду, и я была к этому готова. Но всегда, рано или поздно, его терпение иссякало. Его пальцы впивались в мои волосы, и неистовое соитие становилось неизбежным. И я отдавалась ему вся, с воем и скулёжом, как и подобает его верной, похотливой сучке. Это была гармония. Странная, уродливая для кого-то, но идеальная для нас. Равновесие между светом и тьмой, между сценой и парком, между женщиной и зверем. И я не променяла бы это ни на что. Глава 27: Дилемма Я сказал Офе, что хочу написать её новую картину. Не нимфу, не задумчивую женщину у окна — а её истинную, обнажённую сущность. В образе собаки. Она вспыхнула, её зрачки расширились от немого возбуждения, и она, не говоря ни слова, припала щекой к моей ноге, всем видом выражая согласие и готовность. Мы с особой, почти болезненной тщательностью подобрали аксессуары. Не бутафорию, а вторую кожу. Качественный, реалистичный костюм из мягкого искусственной кожи, идеально передающий мускулатуру животного. Маску с ушами и длинной, изящной мордой, которая скрывала её человеческое лицо, оставляя лишь глаза — самые выразительные её часть, сверкающие из-под прорезей. Лапы с мягкими, упругими подушечками, даже накладной влажный нос, холодный на ощупь. Я усадил её в центре мастерской, на паркет, перед пустой металлической миской с гравировкой «Офа». Она устроилась, подогнув «лапы» под себя, и уставилась в пустоту перед миской. Её поза, наклон головы, малейшее напряжение в спине — всё кричало о тоске, ожидании, абсолютной, безоговорочной преданности. Она не просто играла роль — она исчезла внутрь неё. Я писал быстро, яростно, почти не глядя на холст, ведомый какой-то посторонней силой, пытаясь ухватить эту странную, щемящую душу боль одиночества, исходящую от существа, чья жизнь целиком зависела от того, кто должен вернуться и наполнить эту пустую миску. Картина вышла пугающе живой и пронзительной. Она ушла на закрытом аукционе за сумму, которая позволила бы нам годами не думать о деньгах. Но я оставил себе копию. Когда я показал её Офе, она долго молча смотрела на холст, а потом по её щеке, из-под края маски, скатилась одна-единственная слеза. Не от счастья, а от какой-то глубокой, непонятной даже ей самой печали, от узнавания самого дна собственной натуры. Картина будто вытащила наружу и показала ей её абсолютную, животную потребность быть нужной, быть зависимой, быть моей. И вот теперь я сижу в пустой, пропитанной запахом краски и тишины мастерской, перед этой самой копией. И передо мной встала самая мучительная дилемма моей жизни. Что такое любовь? Что есть любовь к человеку? Или то, что между нами — это любовь не к человеку, а к идее, к проекту, к прекрасно выдрессированному, одухотворённому питомцу? Кто мы такие? Я — творец, опьянённый своей безграничной властью, наслаждающийся полным контролем над другим существом? Или я — просто мужчина, нашедший свою единственную половинку в самом неожиданном, шокирующем обличье? Она — жертва моего больного, эгоистичного воображения, сломленная и подчинённая? Или она — самая свободная женщина из всех, кого я знал, нашедшая своё глубинное, неоспоримое счастье в тотальной самоотдаче? "Мы в ответе за тех, кого приручили." Эта фраза Экзюпери бьётся в висках, как набат. Я приручил её. Я вырвал её из обычной жизни, из человеческих условностей и норм, и сделал своей. Я взял на себя полную ответственность за её жизнь, за её будущее, за её... любовь. Да, я верю, что это любовь. Такая же искренняя, чистая и всепоглощающая, как и моя. И я люблю её. Безумно. Всем сердцем, всей душой, всеми своими тёмными и светлыми сторонами. Люблю её на сцене, сияющую и неистовую. Люблю её на четвереньках в парке, послушную и дикую. Люблю её слёзы перед картиной и её безудержный восторг на наших ночных прогулках. Но что делать дальше? Продолжать вести её по этому пути? Где его конец? Где та грань, за которую нам нельзя будет переступить, чтобы не потерять себя окончательно? Или... остановиться? Попытаться вернуть её к какой-то «нормальности», к миру, где люди ходят на двух ногах и не спят у ног друг друга? Но не будет ли это самым чудовищным предательством по отношению к ней, к той, кем она стала по своей воле, к её истинному «я»? Не убью ли я ту самую её суть, которую так боготворю? Я должен принять решение. Не ради себя. Ради неё. Потому что я несу за неё ответ. Потому что я её хозяин. И потому что я люблю её больше собственной жизни, больше своего искусства, больше этой проклятой, гениальной, разрывающей сердце картины. Тишина в мастерской густеет, и в ней нет ответа. Есть только она на холсте — одинокая, ждущая. И моя обязанность — решить, вернуться к ней или оставить навсегда с пустой миской. Глава 28: Предложение Два дня. Сорок восемь часов тягучего, липкого ужаса. Грэм сказал, что у нас будет серьёзный разговор. Возможно, последний. От этих слов что-то ёкнуло и разбилось внутри, а потом меня скрутило такой спазмирующей волной тошноты, что я едва успела добежать до раковины. Горло обожгло кислотой, слёзы текли ручьями сами по себе, смешиваясь с водой. Я металась по квартире, как зверь в клетке, не находя себе места. Руки сами тянулись к его вещам — к свитеру, который пахнет им, краской и скипидаром, к его чашке на столе. Я прижимала их к лицу, пытаясь уловить ускользающее ощущение безопасности, и глухой, животный стон вырывался из груди. Я не знала, как себя вести — инстинкт велел спрятаться, забиться в самый тёмный угол под кроватью и завыть, завыть так, чтобы он услышал мою боль. Он нашёл меня сидящей на полу в гардеробной, прижавшейся лбом к дверце. Его шаги были бесшумными, как всегда. Он не сказал ни слова, просто опустился рядом, и его пальцы погрузились в мои волосы, принялись медленно, ритмично почёсывать кожу за ухом. От этого простого, привычного жеста что-то дрогнуло внутри, и я бессильно обмякла, упёршись лбом в его колено. —Всё будет нормально, — произнёл он своим низким, спокойным голосом. В нём звучала лёгкая, почти научная заинтересованность. — Ты ведёшь себя действительно как переживающая сука, когда чувствует приближение перемен. Это... интересно наблюдать. Его слова не утешили. Они лишь подчеркнули пропасть между нами в тот момент. Он — наблюдатель, аналитик. Я — подопытное существо, чьи страхи являются частью эксперимента. Я боялась. Боялась так, как не боялась никогда в жизни. Боялась потерять его, наш мир, нашу странную, совершенную вселенную. В воскресенье, ровно в полдень, он позвал меня на кухню. Солнечный свет резкими прямоугольниками падал на светлый паркет, пылинки танцевали в воздухе. Он усадил меня за стол. Не на пол, а на стул. Жёсткий, холодный, слишком высокий. Как человека. Сам сел напротив, отодвинув чашку с недопитым кофе. Его лицо было серьёзным, непроницаемым. И он начал говорить. Долго. О любви. О преданности. Об ответственности. О том, кто кого любит и кто кому что должен. Его слова плыли ко мне сквозь нарастающий гул в ушах. Я слушала и не понимала. А что, разве не видно? Разве не видно по тому, как я смотрю на него? Что я люблю его больше жизни? Что я дышу им? Что он для меня — солнце, воздух, земля под ногами, весь мой мир? И разве не видно, что он любит меня? По его поступкам, по его тихой, всеобъемлющей заботе, по тому, как его взгляд смягчается, когда он думает, что я не вижу. В голове стучала лишь одна, чудовищная мысль: всё. Конец. Я ему надоела. Его великий художественный и человеческий эксперимент завершён. Он понял всё, что хотел, и теперь я не нужна. Он хочет бросить меня. Отправить обратно, в тот плоский, безжизненный мир, из которого он меня забрал. Или, если брать сравнение с собакой... сдать в приют. Отдать кому-то другому, менее терпеливому, менее понимающему. От этой мысли холодная стальная игла вошла мне в горло, сдавила его. Я сидела, сцепив ледяные пальцы под столом, и смотрела ему в глаза, пытаясь найти в их зелёной глубине хоть намёк, хоть искру тепла, надежды. Мне нечего было сказать. Не было слов, способных выразить этот ужас. Я могла только слушать и ждать приговора, чувствуя, как медленно умираю внутри. И тут он сделал то, чего я никак не ожидала. Он замолчал. Долгий вздох. Он посмотрел на меня ещё секунду, и в его глазах что-то переломилось — исчезла аналитическая отстранённость, осталась лишь какая-то первозданная, сырая нежность. Затем он встал. Не просто встал, а медленно, почти церемониально опустился передо мной на одно колено. Паркет мягко скрипнул под его весом. В его пальцах блеснуло что-то. Маленькое, но ослепительное, игравшее на солнце всеми цветами радуги. — Офа, — произнёс он, и его голос, всегда такой твёрдый и уверенный, дрогнул, сорвался на хрипоту. — Ты — моя самая верная, самая лучшая, самая любимая. Ты прошла со мной через всё. Ты приняла меня всего, без остатка. И я... я хочу пройти с тобой всё оставшееся время. Всю жизнь. Стань моей женой. Официально. Публично. Будь моей. Навсегда. Он протянул кольцо. Не простое золотое кольцо, а произведение искусства. Изумруд, его камень, огранённый россыпью мелких бриллиантов. Зелёный, как его глаза, когда он смотрит на меня в те редкие моменты абсолютной, беззащитной нежности. Я широко раскрыла глаза. Мозг отказывался верить, обрабатывать информацию. Это не «прощай». Это не «мы должны расстаться». Это... «давай навсегда». Это «я выбираю тебя». Воздух с шумом вернулся в мои лёгкие. — Да, — выдохнула я, и это было единственное слово, на которое я была способна, тихое, сорванное. А потом прорвалось: — Да, да, да! Потом я соскользнула со стула, не чувствуя под собой ног, и опустилась рядом с ним на колени. Запрокинула голову, и из самой глубины души, из самой своей звериной сути, вырвался вой. Не тот, что предвещает беду, а вой радости, облегчения, абсолютного, всепоглощающего счастья. Это был единственный возможный способ выразить то, что переполняло меня до краёв, рвалось наружу. Он переспросил, смеясь сквозь слёзы, которые я, кажется, увидела на его ресницах впервые за всё время нашего знакомства: — Это... означает «да»? В ответ я лизнула его в щёку, быстро-быстро, по-собачьи, как умела это делать только я, вбирая в себя солёный вкус его кожи и его слёз. Он расхохотался, настоящим, глубинным смехом, и обнял меня, прижал к своей груди так крепко, что у меня перехватило дыхание. — Тогда, — сказал он, уже серьёзно, — давай планировать свадьбу. А вернее, две. Одну — для них. Для всех. А другую... для нас. Для себя. И я сразу поняла, на что он намекает. Одну — белую, с пышным платьем, толпой гостей, обменом кольцами и традиционными клятвами. А другую... нашу. Тайную. Там, в нашем лесу, у озера, или в загородном домике, пахнущем деревом и хвоей. Где я буду не в белом, а в своём самом откровенном, втором кожухе. Где он будет вести меня не под руку, а на тонком, изящном поводке. Где клятвы верности мы будем давать не словами, а взглядами, прикосновениями, безмолвным пониманием и тихим, довольным поскуливанием. Я снова завыла от счастья, уже тише, уткнувшись мордочкой в его шею, а он прижал меня к себе, и мы сидели так на солнечном полу кухни — жених и его невеста, хозяин и его сука. И в этом не было ни капли противоречия. Это была просто наша любовь. Наша странная, уродливая для кого-то и абсолютно прекрасная для нас гармония. Глава 29: Две церемонии (глазами Грэма) Есть такая примета — невесту нельзя видеть в свадебном платье до свадьбы. Глупость, конечно. Но я — человек суеверный, когда дело касается её. Поэтому я купил другое платье. Похожее, но не то. Белое, воздушное, но без вышивки и фаты. Чтобы нарисовать её до того, как она наденет настоящее. Она стояла в центре мастерской, залитая утренним светом, полубоком ко мне. Спереди — классический силуэт невесты, намёк на фату, падающая на плечо прядь волос. А сзади... Сзади подол был коротким, открывая стройные ноги в чулках с кружевными подвязками и — её хвост. Он лежал на её бедре, пушистый и тёмный, живой контраст стерильной белизне шелка. Это был наш с ней секрет, запечатлённый на холсте, наша двойная жизнь, сведённая в один идеальный, сюрреалистичный образ. Картина вышла странной, тревожной и, как мне показалось, бесконечно прекрасной. Посовещавшись с Офой, мы приняли решение продать её. Вырученные деньги должны были пойти на нашу же свадьбу. Горьковатая ирония судьбы. Купил её тот же загадочный коллекционер, что приобрёл «Собаку у миски». Он, кажется, начал скрупулёзно собирать свою коллекцию «Офы», и эта мысль вызывала у меня странное чувство — смесь гордости и лёгкой тревоги. Не было никаких мальчишников и девичников. Мы провели эти последние дни перед свадьбой вдвоём, в нашем замкнутом мирке, готовясь к двум церемониям сразу. Я зашифровывал детали второй в чертежах, а она, сидя у моих ног, тихо скулила от нетерпения, её пальцы в такт барабанили по полу. Гости на стандартной свадьбе были... стандартные. Несколько репортёров, ловящих кадр для светской хроники (мы уже начинали будоражить публику). Из моих родственников — никого, я давно и окончательно порвал с ними всякие связи. Из её — только мать, которая смотрела на меня с лёгким, непроходящим ужасом, смешанным с глухой, невысказанной благодарностью. Остальные — её бывшие коллеги из кофейни, музыканты, с которыми она записывала альбом, пара моих знакомых — циничных арт-дилеров и вечно пьяных художников. Платье Офы было шикарным. Настоящее произведение искусства из парчи и французского кружева. Оно идеально сидело на ней, скрывая каждую знакомую мне линию тела и, конечно, её хвост. Она выглядела как ангел. Чистым, неземным, хрупким существом с большими, сияющими глазами. Только я один знал, что под многослойными слоями тюля и шёлка, в специально сшитом кармашке, притаился её ошейник с именной биркой. И только я видел, как её пальцы время от времени непроизвольно сжимаются, будто ища поводок, и как в глубине её взгляда, за фасадом счастья, пылает нетерпение моей, нашей сучки. Церемония прошла чинно и безупречно. Обмен кольцами. Долгий, нежный поцелуй под одобрительный вздох зала. Слёзы её матери, которые она смахивала кружевным платочком. После был вечер в дорогом ресторане с панорамными окнами. Всё было очень прилично, даже скучновато. Она даже вышла в своём пышном платье к роялю и спела несколько песен — лирических, романтичных, о вечной любви. Её голос дрожал от волнения, но был прекрасен и чист. Я подошёл к её матери, которая сидела в углу, почти не притрагиваясь к еде и вращая в пальцах бокал шампанского. — Спасибо вам, — сказал я тихо, перекрывая шум голосов. — За вашу дочь. Она — самое лучшее, что было в моей жизни. Я сохраню её. Обещаю. Женщина посмотрела на меня, и в её глазах что-то дрогнуло — тот самый ужас отступил, уступив место усталому принятию. Она молча кивнула, крепко сжала мою руку и быстро отвела взгляд, не в силах вымолвить ни слова. А потом мы уехали прочь. В свадебную ночь. Блин, даже мысли в рифму лезут. Видимо, счастье и правда делает людей сентиментальными дураками. Мы молча ехали в лимузине. Я скинул надоевший пиджак, расстегнул воротник. Она сняла неудобные туфли на шпильке и поджала под себя ноги, уставшие от долгого стояния. Она не смотрела в окно на уплывающие огни города. Она смотрела на меня. И в её глазах читалось то же самое, что бушевало и в моём сердце — нетерпеливое, животное ожидание второй, главной церемонии. Той, где не будет пафосных платьев, любопытных гостей и вспышек фотокамер. Той, где я буду не женихом в смокинге, а Хозяином. А она — не невестой, а моей верной, послушной и жаждущей Офой. Настоящее начиналось только сейчас. Всё самое главное было ещё впереди. Глава 30: Вторая клятва (глазами Офы и Грэма) Первая брачная ночь после официальной свадьбы прошла... не так, как многие могли бы подумать. Не было дикой, животной страсти на полу перед камином. Была нежность. Та самая, о которой иногда томишься, но которую нельзя держать постоянно, как основной режим — иначе сотрется та грань, что делает нас нами. Он любил меня медленно, внимательно, показывая каждым прикосновением, каждым поцелуем: "Я люблю тебя, человека, в образе собаки. А не собаку, в образе человека". Это был важный для него посыл. И для меня тоже. Это напоминало, что в основе всего — мы. Двое людей, которые выбрали друг друга и эту странную форму любви. Секс был потрясающим именно этой лаской, этой почти болезненной бережностью. Мы просто отдавались друг другу, без команд, без правил, без ошейника. Просто как муж и жена. А наутро мы начали готовиться ко второй свадьбе. Настоящей. Наши немногочисленные гости — отобранные самым строгим образом: мой арт-дилер, пара ее музыкантов, несколько коллег-художников, видевших самые тёмные углы его творчества — прибыли в загородный дом. Их встретил я. Не Офа. Я стоял в просторной прихожей, освещённой лишь одним свинцовым светильником, с небольшим лакированным ларцом в руках. — Спасибо, что приехали, — мой голос был ровным, без эмоций. — Вы здесь, потому что мы вам доверяем. И потому что вы подписали соглашение. Всё, что увидите сегодня, останется в этих стенах. Навсегда. Один за другим, под моим спокойным, тяжёлым взглядом, гости молча опускали свои телефоны в ларец. Щелчок защёлки прозвучал оглушительно громко в тишине. Это был звук отрезанного моста. Звук добровольного заточения в нашем с Офой мире на одну ночь. Оператор — человек с каменным лицом и профессиональной камерой — уже снимал. Для нас. Только для нас. Его присутствие было частью ритуала. Когда я вывел её из лимузина перед домом, она не пошла рядом. Она опустилась на колени, а затем — на четвереньки на холодный гравий. Шёлк и тюль зашумели под ней. Я подошёл. Мои пальцы нашли почти невидимый шов на спине. Лёгкий рывок — и застёжка расстегнулась. Я стянул ткань вниз, обнажая её спину, и перед взорами гостей предстал её пушистый тёмный хвост, контрастирующий с белизной кожи. Затем я методично, как делал это сотни раз, стянул её ноги специальными ремнями, согнув в нужной позе. Надел на её руки знакомые ей перчатки-лапки с мягкими подушечками. Пристегнул к её новому, свадебному ошейнику из белой кожи с гравировкой тонкий поводок. И повёл её за собой к дому. Это было сюрреалистичное зрелище: жених в идеальном смокинге, ведущий на поводке невесту в свадебном платье, распахнутом на спине, с хвостом и на четвереньках. Гости, стоявшие на крыльце, на секунду замерли, а затем не сдержались — раздались тихие, почти благоговейные аплодисменты. Офа шла гордо, высоко держа голову. У входа нас ждал человек, некогда окончивший курсы священника — для внешнего мира. Здесь он был просто свидетелем. Он начал клятвы. — Офа, ты обещаешь любить этого мужчину, чтить его и слушаться? Быть его верной спутницей во всём? — Обещаю, — её голос был чист и твёрд. — Грэм, ты обещаешь любить эту женщину, оберегать её и заботиться о ней? Всегда быть её господином и защитником? — Обещаю. Затем мы произнесли свои, личные клятвы. — Я клянусь быть твоим хозяином, — сказал я, глядя ей в глаза. — Всегда вести тебя, всегда держать тебя в безопасности. Ты — моя самая ценная собственность. — А я клянусь быть твоей сучкой, — выдохнула она, и в её глазах стояли слёзы счастья. — Всегда верной, всегда послушной, всегда твоей. После этого настало время для другого кольца. По моему знаку на подиум вкатили гинекологическое кресло. Я бережно уложил в него Офу, распахнув перед гостями её самую сокровенную часть. Затем я достал маленькую бархатную коробочку. В ней лежало изящное кольцо из белого золота с небольшим бриллиантом — для клитора. К нам подошёл человек в чёрном фраке — не священник, а профессиональный пирсер со стерильными инструментами. Под пристальными взглядами гостей, в полной тишине, он быстрым и точным движением пробил её плоть и закрепил кольцо. Офа лишь глубже впилась зубами в свою губу, не издав ни звука. Её глаза были прикованы ко мне. Когда всё было кончено, он наклонился, поцеловал меня в губы, а затем — в другие, ещё влажные от боли и возбуждения «губы». Он снял меня с кресла предварительно расстегнув ремни и сняв"лапки". Я стояла, чуть пошатываясь, сияя новым кольцом, которое теперь навсегда украшало мою плоть. Он взял меня за руку и повёл представляться гостям. Это была чистая фантасмагория. Сюрреализм, ставший нашей реальностью. Нашей второй, главной свадьбой. Мы скрепили наш союз дважды. Перед людьми и перед собой. И второй был для нас куда важнее первого. Я была его. Официально. Публично. И сокровенно. Полностью. Глава 32: Начало новой истории Когда на мне закрепили второе кольцо — холодное, идеально сидящее в самой чувствительной точке, — острая, жгучая боль мгновенно сменилась пьянящей волной абсолютной принадлежности. Это была не просто металлическая безделушка; это была печать. Физическое воплощение его власти и моего добровольного рабства. Грэм бережно подхватил меня на руки, как драгоценность, и вынес в центр зала, залитого мягким светом. Он расстегнул ремни на моих ногах, снял перчатки-лапки, и я встала на дрожащие, но свои собственные ноги. Белое платье спадало с плеч, открывая спину и хвост, но теперь это было моим истинным свадебным нарядом. Моей второй кожей. Мы пошли к гостям. Ко мне подходили, говорили странные, затуманенные шампанским и сюрреализмом происходящего комплименты, осторожно, почти с благоговейным ужасом касались кончиками пальцев моего нового кольца. А потом заиграла наша песня — грязный, рычащий, гипнотический ритм «I Wanna Be Your Dog» в изысканной кавер-версии. И мы пошли танцевать. Это был не танец, а какое-то сумасшедшее, прекрасное действо: он вел меня, безупречный в смокинге, а я, в разорванном платье, с хвостом и сияющим между ног бриллиантом, отдавалась музыке, чувствуя, как новое кольцо покачивается в такт каждому нашему движению, напоминая о себе тонкими, сладостными уколами. Вечер пролетел в шампанском, смехе и чистом, ни на что не похожем сюрреализме. Когда все изрядно напились и раскрепостились, мной овладел внезапный, стихийный порыв. Я забралась на невысокий столик, застеленный смятой скатертью, и крикнула, перекрывая гул голосов: — Кидайте мне вкусняшки! Конкурс! Кто попадёт мне в рот — тому отдельный приз от хозяина! Все притихли на секунду, ошарашенные, а затем разразились хохотом и одобрительными возгласами. Но стали кидать: оливки, ягоды клубники, кусочки сыра, виноград. Я ловила их ртом, стоя на двух ногах, как цирковая собачка, откидывая голову и почти не промахиваясь. Это было даже легче, чем на четвереньках. Атмосфера была истерично-радостной, граничащей с коллективным безумием. Нашим безумием, которое мы им подарили. Гости, один за другим, стали подходить прощаться. Они благодарили нас — за смелость, за честность, за этот безумный, ни на что не похожий, самый откровенный вечер в их жизни. Наконец, последняя машина уехала, гравий под колесами захрустел в ночной тишине в последний раз. Мы остались вдвоём в огромном, опустевшем зале среди горы хрустальной посуды, пустых бутылок, осыпавшихся лепестков роз и повисшей в воздухе густой, звенящей тишины. Запах дорогого табака, духов, шампанского и нас смешался в один странный, интимный аромат. Грэм обнял меня за талию, его пальцы легли на гравировку на моем новом ошейнике. — Ну вот, — тихо, почти шепотом сказал он. — И начало нашей новой истории. Я выскользнула из его объятий и опустилась перед ним на колени прямо на паркет, в прохладную лужу пролитого кем-то красного вина, окрашивающую белое платье в багрянец. — Нет, — возразила я, глядя на него снизу вверх, и в моем голосе звучала не просьба, а уверенность. — Ты ещё не пометил меня. Не окончательно. Не так, как должно. Я откинула голову, смахнула с лица длинную, теперь уже испачканную свадебную фату, открывая горло. — Напои меня, — прошептала я, и мой взгляд не дрогнул. — Пометь меня. Уже наверняка. Сделай это сейчас. Его глаза вспыхнули в полумраке тёмным, первобытным огнём. Он не заставил себя ждать. Это было извращённо, эротично, совершенно — моё белое, испачканное вином и теперь этим платье, моя кожа, моё лицо, грудь — всё покрылось его тёплыми, пахнущими только им, резкими и сладкими отметинами. Я открыла рот, и он попал точно в цель. Он метил везде, с тщательностью и страстью художника, завершающего свой главный, живой шедевр. Затем, повинуясь древнему инстинкту, я стала валяться в этом на полу, как сучка в тухлятине, втирая его запах в кожу, в ткань платья, в самые корни волос, смешивая с вином и пылью, запечатывая обряд. Когда он закончил, я осталась сидеть на коленях, вся в нём, перепачканная, дикая, дыша тяжко и счастливо. Он смотрел на меня, на своё творение, на свою жену, свою суку, своё всё — окончательное и невозвратимое. — Теперь, — хрипло, с неподдельным благоговением в голосе сказал он, — теперь — начало. Эпилог: Навсегда От Грэма: Она забеременела в ту же ночь. Нашу вторую, настоящую свадебную ночь. Я помню, как смотрел на неё спящую, всю ещё в следах нашего праздника — в засохших брызгах на коже, с размазанной по щеке помадой, с сияющим во тьме бриллиантом в её самой сокровенной плоти, — и знал. Не думал, не предполагал. А именно знал, с железной, животной уверенностью, что внутри неё уже зарождается новая жизнь. Наша жизнь. Наше первое совместное творение, зачатое в акте абсолютного приятия и тотального распада всех границ. Через девять месяцев, она родила мальчика. Сильного, крикливого, с её огромными глазами цвета грозового неба. А потом... потом пошло-поехало. Ещё одна беременность. Девочка. Потом снова. И снова. Пять детей. Пять наших шедевров. Пять живых, дышащих доказательств нашей странной, всепоглощающей, не умещающейся ни в какие рамки любви. Я писал её бесконечно. Беременную, раздутую, как спелый, готовый лопнуть плод, с сияющей изнутри кожей и моим кольцом, всё ещё сверкающим на её распухшей, изменившейся плоти. Кормящую — это было особенно сюрреалистично и прекрасно: её грудь, отданная младенцу, и её преданный взгляд, устремлённый на меня. Спустившуюся, уставшую, с синими тенями под глазами и абсолютным, диким счастьем на лице. Для них, для детей, мы были просто мамой и папой. Немного странными, очень закрытыми, но безумно любящими. Мамой, которая поёт им на ночь свои странные, мистические колыбельные, и папой, который рисует их смешные, ушастые портреты прямо на стенах их комнат. Мы были для них идеальными родителями. И это была не ложь. Это была ещё одна, новая, самая светлая грань нашей правды. Лишь иногда, когда дом затихал и с детьми оставались проверенные, молчаливые няни, мы уезжали. В тот самый загородный дом. И там... там она сбрасывала с себя кожу матери, жены, общественного человека. Смывала с себя запах детской присыпки и молока. И снова становилась моей. Моей верной, послушной, идеальной сукой. Чтобы потом вернуться к детям ещё более любящей, ещё более цельной, ещё более наполненной. Наша любовь требовала этих всплесков тьмы, чтобы не угаснуть в солнечной рутине быта. Она — моя вечная муза. Моя жена. Мать моих детей. Моя сука. Всё это — она. Одна и та же. И я не променял бы ни одну из этих граней. Ни на что. От Офы: Я родила ему пятерых. Пятерых! Иногда мне кажется, что я сама не верю в это. Первого — мальчика. Это был такой знак, такой подарок свыше. Потом ещё одного. И ещё. Казалось, моё тело, моя сущность только и ждало его окончательной метки, его одобрения, чтобы начать творить жизнь с яростью и щедростью. Быть матерью — это... это похоже на другую, высшую форму одержимости. Ты отдаёшь всего себя, без остатка. Но в этом я была экспертом. Я уже давно научилась отдаваться полностью, растворяться в другом. Дети давались мне с какой-то звериной лёгкостью. Я пела им свои песни, те, что посветлее и понежнее, и они засыпали под них, улыбаясь. А Грэм... он смотрел на меня, кормящую, убаюкивающую, играющую в куклы, с тем же немым восхищением, с каким когда-то смотрел на меня в парке на поводке. Он писал меня. Всю. Во всех моих ипостасях. И я всегда видела в его глазах одну и ту же мысль: «Ты — моё самое великое, многогранное, живое творение». Но да, иногда мы сбегали. Всего на несколько часов. Чтобы я могла снова опуститься на четвереньки на холодный паркет нашего убежища, почувствовать на шее знакомую, удивительно удобную тяжесть ошейника, вкус его власти и любви на своём языке. Чтобы он мог снова пометить меня, как в ту первую, святую ночь. Это не было бегством от них. Это было возвращением к себе. К нам. Это заряжало нас обоих на месяцы вперёд. Делало нас сильнее, сплочённее, больше. Напоминало, кто мы есть на самом деле, в самой своей сердцевине, помимо всех социальных ролей и родительских долгов. Мы остановились на пятерых. Наша стая была полной, шумной, идеальной. Наша жизнь обрела свой, выстраданный, хрупкий и прочный баланс — между светом и тьмой, между семьёй и игрой, между человеком и зверем, между сценой и логовом. Я была всем для него. Музой, женой, матерью его детей, его сукой. И он — всем для меня. Хозяином, мужем, отцом, любовником, проводником, Богом и рабом одновременно. Это и есть «навсегда». Не статичное, застывшее счастье, а вечное движение, танец на лезвии. Простое. Сложное. Наше.
30481 73 7 Оставьте свой комментарийЗарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора Eser777
Фантастика, Юмористические, Не порно, Фантазии Читать далее... 19470 20 10 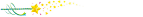
Драма, Подчинение, Романтика, Фантазии Читать далее... 36425 60 10 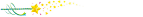 |
|
© 1997 - 2026 bestweapon.one
Страница сгенерирована за 0.031223 секунд
|

|